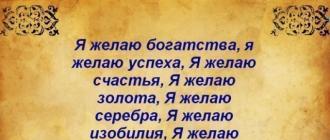Черты сентиментализма в литературе 18 века на примере произведений
Н. М. Карамзина.
Сентиментализм – это художественное течение второй половины 18 века. Особую популярность термин получил под воздействием романа английского писателя Л. Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768, первый русский перевод – 1793).
В западноевропейской литературе сентиментализм развивается в рамках Просвещения как своеобразная реакция на его ранний (рационалистический) этап.
Культ разума, утверждавшийся просветителями, уже в середине века начал обнаруживать свою односторонность.
Жанр романа в письмах открывал возможности для изображения душевного состояния героя или героини. Ещё одно открытие сентиментализма – обращение к переживаниям именно простого, незнатного и небогатого человека. Писатели эпохи сентиментализма делают новый шаг в поисках демократического героя.
В крепостнической России имела важное значение позиция таких писателей сентименталистов, как П. Ю. Львов и Н. М. Карамзин, выражавших сочувствие к простым людям.
Для сентиментализма показательно стремление представить человеческую личность изнутри, в стремлениях, мыслях, чувствах, настроениях. Для этого направления характерны поиски своеобразного в каждом человеке, делающего его не похожим на других людей, изображение любимого «конька», ведущей страсти. Сентименталисты в значительной мере преодолели рационалистическую прямолинейность в обрисовке человеческого характера, показательную для раннего Просвещения. Они не склонны резко противопоставлять положительных и отрицательных героев, изображая характер человека богаче, противоречивее. Они первыми вносят элементы диалектики. Например, Эраст в «Бедной Лизе» Н. М. Карамзина отнюдь не представлен злодеем, а скорее слабым, безвольным человеком, который погубил Лизу, но и сам не нашёл счастья.
У сентименталистов главным критерием является не испорченное цивилизацией чувство. Основная идея сентиментализма – мирная, идиллическая жизнь человека на лоне природы. Резко противопоставляется деревня (средоточие естественной жизни, нравственной чистоты) городу (символу зла, неестественной жизни, суеты). Появляются новые герои – «поселяне» и «поселянки» (пастухи и пастушки). Особое внимание уделяется пейзажу. Пейзаж идиллический, сентиментальный: речка, журчащие ручейки, лужок – созвучен личному переживанию. Автор сочувствует героям, его задача – заставить сопереживать, вызвать сострадание, слёзы умиления у читателя.
Серьёзную проверку сентиментальный идеал прошёл во время Французской революции (1789 – 1794 г. г.), когда ученики сентиментальных воспитателей получили власть и стали преследовать тех, кто, по их мнению, не был достаточно чувствителен. Таков был фактический глава революционного правительства Максимильен Робеспьер по прозвищу Неподкупный – непосредственный ученик Руссо. Он действительно всем сердцем сочувствовал всем сердцем страданиям народа, действительно был абсолютно неподкупен, действительно в политических действиях всегда следовал правилам морали и стремился к тому, чтобы строгое соблюдение их стало политическим правилом для всех. Но он добивался этого, проливая потоки крови. Чувствительный политик превратился в жесточайшего диктатора – «сентиментального тигра», по выражению Пушкина, - а вскоре и сам погиб на эшафоте. Таким образом, сентиментальная утопия, как и всякая утопия, оказалась несостоятельной.
В России основателем сентиментализма по праву считают Николая Михайловича Карамзина. Однако значение Карамзина в русской литературе столь велико, что никак не ограничивается связью с тем или иным направлением. Более того, во многих своих произведениях Карамзин переходит к критике сентиментализма изнутри, показывая противоречивость идеала чувствительности, опережая, таким образом, большинство своих читателей и почитателей.
Шумная, несколько скандальная известность Карамзина началась в 1791 году. Тогда в основанном им «Московском журнале» стали печататься «Письма русского путешественника» - записки (в форме писем к друзьям) о путешествии, которое Карамзин действительно совершил в 1789 – 1790 годах, посетив Германию, Швейцарию, Англию и, главное, революционную Францию. В Германии и Швейцарии Карамзин познакомился со многими знаменитыми деятелями культуры, в том числе с великими философами Кантом и Гердером. Во Франции интересовался в первую очередь политикой, слушал знаменитых революционных ораторов (среди них и малоизвестного тогда Робеспьера), многих из них он знал лично.
«Письма русского путешественника» - и публицистическая, и художественная книга. Карамзин был в равной мере и художником, и общественным деятелем. Рассказчика – «путешественника» - нельзя полностью отождествлять с автором; какие-то из описанных в книге событий случились с Карамзиным в действительности, другие выдуманы или рассказаны не так, как было на самом деле. «Путешественник» изображён наивным, чувствительным молодым человеком, который ездит по Европе без определённой цели. Из чистого любопытства он заводит знакомства со знаменитостями, посещает революционное Национальное собрание в Париже, любуется красотами природы, историческими памятниками. Следуя общей европейской моде, он посещает места, описанные в произведениях Руссо и Стерна, простодушно жалея, что литературных героев не было на самом деле. Притом рассказчик не забывает описывать разговоры со случайными попутчиками, самые незначительные дорожные происшествия. Всё вокруг ему важно постольку, поскольку даёт пищу для сердца и воображения. Лучшая похвала человеку в его устах – добрый. Даже Вольтера, величайшего скептика и насмешника 18 века, Карамзин хвалит именно за доброту, за проповедь гуманности, за то, что он построил церковь и заботился о крестьянах.
Тон повествования в «Письмах» как будто нарочито несерьёзен. Многое в языке автора взято из жаргона светских модников. Порой чувства выражаются с некоторым нажимом: «Качание лодки приводило кровь мою в такое приятное волнение; солнце так великолепно сияло на нас сквозь зелёные решётки ветвистых дерев, уединённые хижины так гордо возвышались среди виноградных садиков, которые составляют богатство мирных семейств, живущих в простоте натуры, - ах, друзья мои! Для чего не было вас со мною?» И сразу после этого описываются бытовые мелочи: «Вышли мы на берег, заплатив лодочнику новый французский талер, или два рубли… Выпив в трактире чашек пять кофе, я чувствую в себе такую бодрость, что готов пуститься пешком на десять миль».
Читатели не сразу разглядели в «чувствительном путешественнике» умного, скорее холодного, чем восторженного наблюдателя. Он может задать дельный вопрос самому Канту; судит о своих знаменитых собеседниках как равный. Наконец, наблюдая весёлую парижскую жизнь 1790 года (это было время затишья революции), он ясно осознаёт, что присутствует при великих событиях, полностью меняющих ход мировой истории. Карамзин был в Париже ещё при монархии; часть «Писем», посвящённая Франции, печаталась, когда революция уже завершилась.
События европейской истории, мнения тех или иных философов или политиков Карамзин осмыслял критически. Но самый склад европейской жизни он предпочитал не критиковать, а, в известной мере, прививать русскому читателю. В Европе времён карамзинского путешествия завершалась сентиментальная эпоха, а в России её ценности как раз становились актуальны.
Рассмотрим более детально, какие же черты сентиментализма проявляются в книге Н. М. Карамзина «Письма русского путешественника». Жанр письма позволял автору наиболее полно и ярко передать свои впечатления от увиденного в Европе, раскрыть чувства, мысли, настроения. Большую живость и чувствительность слогу писателя придаёт тот приём, с помощью которого он обращается к своим друзьям. Письма имеют точную датировку, указано место создания письма. Сначала в небольшом предисловии рассказчик отмечает, что оставляет в своих записках всё как есть, не пытаясь избавиться от «пестроты, неровности слога», так как это следствие различных предметов, которые «действовали на душу молодого, неопытного русского путешественника».
Первая дата отмечена так: «Тверь, 18 мая 1789». Рассказчик полностью соблюдает форму сентиментального письма, изображая выезд как событие, которое вызывает в нём противоречивые чувства. С одной стороны, ему очень жаль расставаться с друзьями, и чтобы передать свои чувства, он использует традиционные для сентиментализма художественные средства. Это обращения, восклицательные и вопросительные предложения, лексические повторы: «Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце моё привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!
О сердце, сердце! Кто знает: чего ты хочешь?»
С другой стороны, он стремится получить от путешествия новые впечатления: «беспокойство человеческого сердца» «влечёт от предмета к предмету», воображение «заставляет нас искать радостей в неизвестности будущего». Автор активно использует лексику, которая усиливает чувствительность: «размягчён, растроган», «слёзы заразительны», «сердце так много чувствовало».
Большой интерес для читателей представляет в «Письмах» описание достопримечательностей городов и встреч со знаменитостями. Вот как он описывает Кенигсберг, «столицу Пруссии», отмечая, что в городе 4000 домов и 40000 жителей – «как мало по величине города!»
Рассказчик посещает «глубокомысленного, тонкого метафизика» Канта, «маленького, худенького старичка, отменно белого и нежного». С полчаса говорили о разных вещах: «о путешествиях, о Китае, об открытии новых земель». Рассказчик был поражён историческим и географическим знаниям Канта, но больше всего ему запомнился разговор о природе и нравственности человека, и он цитирует по памяти слова немецкого философа: «…Не видя цели или конца стремления нашего в здешней жизни, полагаем мы будущую, где узлу надобно развязаться… Помышляя о тех услаждениях, которые имел я в жизни, не чувствую теперь удовольствия, но, представляя себе те случаи, где действовал сообразно с законом нравственным, начертанным у меня в сердце, радуюсь. Говорю о нравственном законе: назовёт его совестию, чувством добра и зла – но они есть. Я солгал, никто не знает лжи моей, но мне стыдно». Говоря «русскому дворянину, любящему великих мужей и желающему изъявить свое почтение Канту», о своей вере в будущую жизнь, немецкий философ подчёркивает, что вера в жизнь будущую предполагает уже «Бытие Всевечного Творческого разума».
Рассказчик отмечает, что эта метафизическая беседа продолжалась около трёх часов и описывает манеру речи Канта и его домик: «Кант говорит скоро, весьма тихо и невразумительно; и потому надлежало мне слушать его с напряжением всех нерв слуха. Домик у него маленький, и внутри приборов много. Всё просто, кроме… его метафизики».
Описывая кенигсбергскую кафедральную церковь, достопримечательность города, рассказчик пишет: «Здешняя кафедральная церковь огромна. С великим примечанием рассматривал я там древнее оружие, латы и шишак благочестивейшего из маркграфов бранденбургских и храбрейшего из рыцарей своего времени. «Где вы, - думал я, - где вы, мрачные веки, веки варварства и героизма? Бледные тени ваши ужасают робкое просвещение наших дней. Одни сыны вдохновения дерзают вызывать их из бездны минувшего – подобно Улиссу, зовущему тени друзей из мрачных жилищ смерти, - чтобы в унылых песнях своих сохранять память чудесного изменения народов». – Я мечтал около часа, прислонясь к столбу. – На стене изображена макграфова беременная супруга, которая, забыв своё состояние, бросается на колени и с сердечным усердием молит небо о сохранении жизни героя, идущего побеждать врагов. Жаль, что здесь искусство не соответствует трогательности предмета! – Там же видно множество разноцветных знамён, трофеев макграфовых».
В процитированном отрывке отчётливо видно, что Карамзин прекрасно соблюдает форму сентиментальных традиций: герой обязательно пребывает в «мечтах», глубокой задумчивости при воспоминании о прошлом; используются риторические обращения и вопросы, лексические повторы («Где вы, где вы, мрачные веки, веки варварства и героизма?») Обязательно используется развёрнутое сравнение, взятое из произведений античности; употребляется перифраз «сыны вдохновения» (поэты), которые сравниваются с Улиссом (Одиссеем), оказавшимся в подземном царстве мрачного Аида, чтобы вызвать тени друзей. Здесь и сетования на то, что в увиденном произведении искусства не хватает «трогательности», так как сентименталисты ставили задачу добиться от читателей непременно слёз скорби или умиления, что должно было привести к «катарсису» - нравственному очищению.
Знакомит рассказчик своих читателей и с местными преданиями. Наёмный лакей- француз утверждал, что из кафедральной церкви есть подземный ход за город, в старую церковь, до которой будет около двух миль, и показывал маленькую дверь с лестницей, которая ведёт под землю.
Рассказчик стремится описать быт горожан: «Здесь есть изрядные сады, где можно с удовольствием прогуляться. В больших городах весьма нужны народные гульбища. Ремесленник, художник, учёный отдыхает на чистом воздухе по окончании своей работы, не имея нужды идти за город. К тому же испарения садов освежают и чистят воздух, который в больших городах всегда бывает наполнен гнилыми частицами. Ярманка начинается. Все наряжаются в лучшее своё платье, и толпа за толпою встречается на улицах. Гостей принимают на крыльце, где подают чай и кофе».
Дневниковая запись заканчивается обращением к друзьям к непременным изъявлением своих чувств: «Я вас люблю так же, друзья мои, как и прежде; но разлука не так уже для меня горестна. Начинаю наслаждаться путешествием. Иногда, думая о вас, вздохну; но лёгкий ветерок струит воду, не возмущая светлости её. Таково сердце человеческое; в сию минуту благодарю судьбу за то, что оно таково. – Будьте только благополучны, друзья мои, и никогда обо мне не беспокойтесь! В Берлине надеюсь получить от вас письмо».
Здесь, продолжая сентиментальную традицию, Карамзин стремится вывести общечеловеческие законы чувствительности («Таково, сердце человеческое»).
Проезжая Фрауенберг. Рассказчик досадует, что не может видеть тех комнат, в которых жил Коперник, «славный математик и астроном, где он определил движение земли вокруг её оси и солнца». «Сей астроном был счастливее Галилея: суеверие… не заставило его клятвенно отрицаться от учения истины».
Рассказывая о посещении театра в Берлине, рассказчик не скупится на слова, передающие его чувства. Он смотрел драму Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние» и «плакал как ребёнок, не думая осуждать сочинителя». Недостаток пьесы Коцебу он видит в том, что тот «в одно время заставляет зрителей и плакать и смеяться!» Путешественник видит в этом отсутствие вкуса, очевидно, желая только плакать. «Вышедши из театра, обтёр я последнюю сладкую слезу. Поверите ли, друзья мои, что нынешний вечер причисляю я к счастливейшим вечерам моей жизни? И пусть теперь доказывают мне, что изящные искусства не имеют влияния на счастие наше!» Здесь обратим внимание на то, что наряду с традиционной для сентименталистов мыслью о благотворном влиянии искусства на воспитание чувствительности, автор использует не только обращения, риторические вопросы и восклицания, но и многочисленные инверсии, усиливающие эмоциональность речи.
В «Письмах» есть много описаний природы, которые созданы в сентиментальных традициях. Рассмотрим некоторые из них. Вот пейзаж по дороге в Берлин: «Луна взошла над нами; ясный свет её разливался по зелени листьев; тихий и чистый воздух упитан был благовонными испарениями лип. И я мог жаловаться в сии минуты – тогда, как мать природа дышала ароматами вокруг меня? Эта ночь оставила во мне какие-то романические, приятные впечатления». Герой вступает во взаимодействие с природой, она изменяет его настроение, вызывает приятные чувства, слог при описании природы возвышенный, используется книжная и высокая лексика: «упитан», «благовонными», «ароматами», «мать природа», «романические».
Вот ещё один сентиментальный пейзаж: «Длинная аллея вывела меня на обширный зелёный луг. Тут на левой стороне представилась мне Эльба и цепь высоких холмов, покрытых леском, из-за которого выставляются кровли рассеянных домиков и шпицы башен. На правой стороне поля, обогащённые плодами; везде вокруг меня расстилались зелёные ковры, усеянные цветами. Вечернее солнце кроткими лучами своими освещало сию прекрасную картину. Я смотрел и наслаждался; смотрел, радовался и - даже плакал, что обыкновенно бывает, когда сердцу моему очень весело! – Вынул бумагу, карандаш; написал: «Любезная природа!» - и более ни слова!! Но едва ли когда-нибудь чувствовал так живо, что мы созданы наслаждаться и быть счастливыми; и едва ли когда-нибудь в сердце своём был так добр и так благодарен против моего творца, как в сии минуты. Мне казалось, что слёзы мои льются от живой любви к Самой Любви и что они должны смыть некоторые чёрные пятна в книге жизни моей.
А вы, цветущие берега Эльбы, зелёные леса и холмы! Вы будете благословляемы много и тогда, когда, возвратясь в северное отдалённое отечество моё, в часы уединения буду вспоминать прошедшее!»
Мы видим, что природа возведена в культ, она идиллическая, вызывает в герое слёзы радости и умиления, благодарности Творцу природы и любви, что способствует его нравственному очищению (слёзы должны смыть чёрные пятна в книге жизни), речь метафорична, образна, эмоциональна, лирически взволнованна. Риторические обращения к природе, к цветущим берегам Эльбы, риторические восклицательные и вопросительные предложения, многочисленные инверсии, лексика, с помощью которой выражаются чувства – всё это усиливает эмоциональность речи.
В духе сентиментализма и в жанре сельской идиллии описываются поселяне и поселянки – новые герои этого литературного направления: «Каждый поселянин, идущий по лугу, казался мне благополучным смертным, имеющим с избытком всё то, что потребно человеку. «он здоров трудами, - думал я, - весел и счастлив в час отдохновения, будучи окружён мирным семейством, сидя подле верной своей жены и смотря на играющих детей. Все его желания, все надежды ограничиваются обширностью его полей; цветут поля, цветёт душа его». – Молодая крестьянка с посошком была для меня аркадскою пастушкою. «Она спешит к своему пастуху, - думал я, - который ожидает её под тенью каштанового дерева, там, на правой стороне, близ виноградных садов. Он чувствует электрическое потрясение в сердце, встаёт и видит любезную, которая издали грозит ему посошком своим. Как же бежит он навстречу к ней! Пастушка улыбается; идёт скорее, скорее – и бросается в отверстые объятия милого своего пастуха». – Потом видел я их (разумеется, мысленно) сидящих друг подле друга в сени каштанового дерева. Они целовались, как нежные горлицы».
Кроме описаний природы, в «Письмах» есть много описаний достопримечательностей. Например, рассказчик посещает Дрезденскую картинную галерею и подробно описывает картины, сообщает сведения о жизни художников: Рафаэля. Микель Анджело.
Проезжая Веймар, наш герой не мог не посетить знаменитого немецкого философа Гердера. Духовная тематика занимает очень важное место в книге Карамзина, и чаще всего она раскрывается в беседах со знаменитостями. Начитанный путешественник цитирует большие отрывки из философских сочинений Гердера, например, то место, где учёный размышляет о бессмертии, рассказывая о лилии, растущей в поле, которая «впивает в себя воздух, свет, все стихии – и соединяет их с существом своим, для того чтобы расти, накопить жизненного соку и расцвесть; цветёт и потом исчезает». Но лилия любовь и жизнь свою истощила на то, чтобы сделаться матерью, «оставить по себе образы свои и размножить своё бытие». Гердер в пересказе героя приходит к выводу, что смерти нет в творении.
Гердер встретил путешественника ещё в сенях, обошёлся с ним ласково, говорил о политическом состоянии России, о литературе, о немецких поэтах, о совершенстве древнегреческого языка, и рассказчик сделал вывод, что философ очень любезный человек.
В Цирихе наш путешественник посетил Лафатера, передавая читателям портрет этого учёного и философа: «…он имеет весьма почтенную наружность: прямой и стройный стан, гордую осанку, продолговатое бледное лицо, острые глаза и важную мину. Все его движения живы и скоры; всякое слово говорит он с жаром. В тоне его есть нечто учительское или повелительное, происшедшее, конечно, от навыка говорить проповеди, но смягчаемое видом непритворной искренности и чистосердечия». Описывая одно из посещений Лафатера. Рассказчик знакомит нас с игрой в вопросы и ответы, которой развлекалось общество. Некоторые примеры ему хорошо запомнились. Кто есть истинный благодетель? Тот, кто помогает ближнему в настоящей его нужде. Нужна ли жизнь такого-то человека для совершения такого-то дела? Нужна, если он жив останется; не нужна, если он умрёт.
Путешественника удивляет в Лафатере то, что он часа свободного не имеет, и дверь кабинета его почти никогда не затворяется; когда уйдёт нищий, придёт печальный, требующий утешения, или путешественник, не требующий ничего, но отвлекающий от дела. Лафатер посещает больных и умирающих и объясняет рассказчику, откуда он черпает столько силы и столько терпения: «Человек может делать много, если захочет, и чем более он действует, тем более находит в себе силы и охоты к действию».
Большой интерес представляет описание революционного Парижа: «Париж ныне не то, что он был. Грозная туча носится над его башнями и помрачает блеск сего некогда пышного города. Златая роскошь, которая прежде царствовала в нём, как в своей любезной столице, - златая роскошь, опустив чёрное покрывало на горестное лицо своё, поднялась на воздух и скрылась за облаками; остался один бледный луч её сияния, который едва сверкает на горизонте, подобно умирающей заре вечера. Ужасы революции выгнали из Парижа самых богатейших жителей; знатнейшее дворянство удалилось в чужие земли, а те, которые здесь остались, живут по большей части в тесном круге своих друзей и родственников».
Путешественник с сочувствием и симпатией изображает короля и королеву, которых он увидел в придворной церкви: «Спокойствие, кротость и добродушие изображаются на лице первого, и я уверен, что никакое злое намерение не рождалось в душе его. Есть на свете счастливые характеры, которые по природному чувству не могут не любить и не делать добра: таков сей государь! Он может быть злополучен; может погибнуть в шумящей буре – но правосудная история впишет Людовика 16 в число благодетельных царей, и друг человечества прольёт в память его слезу сердечную. – Королева, несмотря на все удары рока, прекрасна и величественна, подобно розе, на которую веют холодные ветры, но которая сохраняет ещё цвет и красоту свою».
Несомненно, Карамзин отрицательно относится к революции во Франции, он изображает её как бедствие. Оказавшись в Париже в апреле 1790 года, вот что он пишет: «Не думайте, однако ж, чтобы вся нация участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует; все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши, или освистывают, как в театре! Те, которым потерять нечего, дерзки, как хищные волки; те, которые всего могут лишиться, робки, как зайцы; одни хотят всё отнять, другие хотят спасти что-нибудь».
Характерная сценка для Франции того времени, которую приводит рассказчик. В одной деревеньке близ Парижа крестьяне остановили молодого, хорошо одетого человека и требовали, чтобы он кричал: «Да здравствует нация!», совершенно не зная, что такое нация. Этот «анекдот» позволяет, по мнению путешественника судить о народном невежестве.
Подведём итоги нашей работы.
Итак, мы убедились, что «Письма русского путешественника Карамзина» по форме, по жанру совершенно вписываются в традиции сентименталистов, но по содержанию отличаются, например, от «Сентиментального путешествия» Стерна. Во-первых, у Стерна преобладает субъективное начало. Книге Карамзина в большей степени свойственно субъективное начало, но оно не поглощает весь материал книги, потому что в ней мы находим огромное количество сведений о культуре, быте, искусстве, людях Запада. Информационная задача у Карамзина выдвинута на первый план, автор действительно посетил Европу и те места, о которых он пишет, изучал западные страны по справочникам, по различным книгам, чтобы потом увидеть всё самому воочию. Он приехал в эти страны уже «европейцем» и очень хотел познакомить с Западом русского читателя. Вернувшись из длительного путешествия, Карамзин принялся за работу, чтобы создать своё произведение по свежим следам, опираясь на свои знания и впечатления, и ему это удалось: возникла грандиозная книга, своеобразная «энциклопедия» Запада для русского читателя. Что же касается Стерна, то он своё произведение мог создать дома на диване, никуда не выезжая. У Карамзина мы знакомимся с подлинными наблюдениями, он использует много книжного материала, его «Письмам» характерна фактическая точность. Таким образом, «Письма русского путешественника» - это не только «сентиментальное» путешествие, но и эта книга играет важную образовательную и воспитательную роль.
Несмотря на то, что у Карамзина был общий с его западноевропейскими учителями взгляд на человека как на личность, которая осуществляет себя в богатстве чувств, в духовной жизни, в отстаивании одинокого счастья, по своему содержанию его произведения отличались от произведений европейских коллег. Причины различия заключаются в национальных условиях жизни, во времени становления сентиментализма. Западноевропейский сентиментализм переживал свой расцвет в период духовного и политического подъёма, когда революция ещё не обнажила свой «звериный оскал». Русский сентиментализм складывался позднее, в годы роковой проверки теории просветителей практикой французской революции, в эпоху начавшейся драмы передовых людей, в период обнаружившейся катастрофичности бытия человека нового времени. Революция убеждала, что обещанное просветителями «царство разума», справедливости, равноправия и свободы не наступило. Всё это и определило национально-неповторимый облик сентиментализма Карамзина. Субъективизм и пессимизм Карамзина обусловлен драмой идей века. Писатель ставил перед собой не камерные, а общечеловеческие задачи.
Обновлено: 2018-07-04
Внимание!
Спасибо за внимание.
Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
.
Тем самым окажете неоценимую пользу проекту и другим читателям.
Полезный материал по теме
«Ах, мой друг! Жалей о несчастном! Простуда, кашель, боль в груди едва ли позволяют мне за перо взяться; но я непременно должен известить тебя о моем меланхолическом приключении. Ты помнишь молодую ивердонскую красавицу, с которою мы ужинали в Базеле, в трактире „Аиста“; помнишь, может быть, и то, что я сидел рядом с нею, что она говорила со мною ласково и смотрела на меня с нежностию, – ах! Какая гранитная гора могла защитить мое сердце от ее пронзительных взоров? Какие снежные громады могли погасить огонь, воспаленный сими взорами в источнике жизни моей? Так, мой друг! Я учился анатомии, медицине и знаю, что сердце есть точно источник жизни, хотя почтенный доктор Мегадидактос вместе с уважения достойным Микрологосом искал души и жизненного начала в чудесном, от глаз наших укрывающемся, сплетении нерв… Но я боюсь удалиться от моего предмета и потому, оставляя на сей раз почтенного Мегадидактоса и уважения достойного Микрологоса, скажу тебе откровенно, что ивердонская красавица возбудила во мне такие чувства, которых теперь описать не умею. Не знаю, что бы из меня вышло и что бы я сделал, если бы она – о жестокий удар! – не уехала из трактира в самую ту ночь, в которую душа моя занималась ею с величайшим жаром и в которую утешительный сон не смыкал глаз моих. Ты вывез меня из Базеля; путешествие, приятные места, встреча с француженкою, маленький Пьер, белка, злая белка , новые знакомства, водопады, горы, девица Г* – все сие не могло совершенно затереть образа прекрасной ивердонки в сердце моем. Долго старался я преодолевать себя; но тщетно! Быстрая река рано или поздно разрывает все оплоты: так и любовь! Наняв в Лозанне лошадь, поехал я верхом в Ивердон; скакал, летел и в десять часов утра был уже на месте – остановился в трактире, напудрился, снял с себя кортик, шпоры и пошел, куда стремилось мое сердце. Там с пасмурным видом встретил меня шестидесятилетний старик, отец моей красавицы. „Милостивый государь! – сказал я. – Почтение, которым душа моя преисполнена к вашей любезной дочери; великое, сильное желание видеть ее…“ – В самую сию минуту она вошла. „Юлия! Знаешь ли ты этого господина?“ – спросил у нее старик. Юлия посмотрела на меня и учтивым образом отвечала, что она не имеет сей чести. Вообрази мое удивление! Я весь затрепетал – затрепетал вслух, как говорит Клопшток. Мне казалось, что все швейцарские и савойские горы обрушились на мою голову. Насилу мог я собраться с духом и, не говоря ли слова, подал беспамятной Юлии записную книжку мою, где увидела она имя свое, ее собственною рукою написанное . Краска выступила на лице жестокой; она стала передо мною извиняться и сказала отцу: „Я имела честь вместе с ним ужинать в Базеле“. Он просил меня сесть. Кровь моя все еще не могла успокоиться, и я не имел духа смотреть на Юлию, которая также была в замешательстве. Старик, услышав от меня, что я доктор медицины, очень обрадовался и начал говорить со мною о своих болезнях. „Увы! – думал я, – за тем ли судьба привела меня в Ивердон, чтобы рассуждать о геморроидальных припадках дряхлого старика?“ Между тем дочь его сидела, нюхала табак и взглядывала на меня, но совсем уже не так, как в Базеле. Взоры ее были так холодны, так холодны, как Северный полюс. Наконец самолюбие мое, жестоко уязвленное, заставило меня встать со стула и откланяться. „Долго ли вы пробудете в Ивердоне?“ – спросила Юлия приятным своим голосом (и с такою усмешкою, которая весьма ясно говорила: „Надеюсь, что ты уже не придешь к нам в другой раз“). – „Несколько часов“, – отвечал я. – „В таком случае желаю вам счастливого пути“. – „И счастливой практики“, – примолвил старик, сняв свой колпак. Мы расстались, и, когда я вышел на улицу, наемный слуга, провожатый мой, сказал мне, что девица Юлия скоро выйдет замуж за г. NN. „А! Теперь знаю причину холодного приема!“ – думал я и удвоил шаги свои, чтобы скорее удалиться от дому будущей супруги г. NN. – Город Ивердон стал мне противен. Я с великим нетерпением дожидался обеда и, сев за стол, велел слуге оседлать мою лошадь. Вместе со мною обедало четверо англичан, которые вздумали пить мое здоровье всеми винами, какие были у трактирщика. Я сам велел подать бутылки две бургонского, чтобы отблагодарить их, – и таким образом прошло неприметно около трех часов. Сердце мое забыло все земное горе и простило неверную Юлию. Англичане, по своему обыкновению, выдумывали разные сентиментальные, или чувствительные, здоровья . Мне также, в свою очередь, надлежало предложить три или четыре. При последнем я налил полную рюмку, поднял ее высоко и сказал громко: „Кто любит красоту и нежность, тот пей со мною за здоровье Юлии и желай красавице счастливого супружества!“ Рюмки застучали, вино запенилось, и все англичане в один голос воскликнули: „Мы пьем за здоровье Юлии и желаем красавице счастливого супружества!“ – Между тем я раз десять спрашивал, готова ли моя лошадь, и десять раз отвечали мне, что она давно стоит у крыльца. Наконец слуга пришел сказать, что мне нельзя ехать. – „Нельзя? Для чего же?“ – „Становится поздно, и находят облака“. – „Вздор! Я поеду! Лошадь!“ – Через полчаса опять пришел слуга. „Вам нельзя ехать“. – „Нельзя? Для чего же?“ – „Стало поздно; облака сгустились, и пошел снег“. – „Вздор! Я поеду! Лошадь!“ – Через несколько минут слуга опять подошел ко мне. „Вам нельзя ехать!“ – „Нельзя? Для чего же?“ – „Ночь на дворе; снег валится хлопками, и скоро сильный ветер надует везде сугробы“. – „Вздор! Поеду, сию минуту поеду! Лошадь!“ – Сказал, встал со стула, пожал у англичан руки, подпоясал кортик, расплатился с хозяином, вскочил на коня своего и пустился во всю прыть по Лозаннской дороге. Ветер со снегом дул мне в лицо, но я протирал глаза и беспрестанно шпорил свою лошадь. Скоро сделалась страшная вьюга, и белая тьма совсем лишила меня зрения. Я чувствовал, что еду не по дороге, но делать было нечего. Вперед, вперед, на волю божию – и таким образом странствовал до половины ночи. Наконец добрый копь, верный товарищ мой, совсем из сил выбился и стал. Я сошел с него и повел его за узду, но скоро и мои силы истощились. Уже несчастный приятель твой готов был упасть на пушистую снежную постелю, покрыться снежным одеялом и поручить участь свою богу; хладная смерть со всеми своими ужасами вилась надо мною! Увы! Я прощался уже с моим отечеством, с друзьями, с химическими лекциями и со всеми моими лестными надеждами! Но судьба изрекла мне помилование, и вдруг увидел я перед собою крестьянский домик. Ты легко можешь представить себе радость мою, и для того не буду ее описывать. Довольно, что меня там приняли, отогрели, накормили, успокоили. На другой день поутру я принудил хозяина взять у меня шесть франков и в десять часов утра возвратился в Лозанну – с жестокою простудою. Вот конец моего романа! Vale! В. – P. S. Как скоро уймется мой кашель, возвращусь на старое свое жилище, в Женевскую республику, под надежный покров великолепных синдиков . У вас, сказывают, много шуму!»
Контрольная работа по
Истории русского литературного языка
Анализ текста” Письма русского путешественника” Карамзина Н.М.
Могилёв 2010
1. Черты разговорного и книжного синтаксиса.
2. Группы лексики.
3. Функции старославянской и старокнижной лексики в произведении.
5. Принципы, используемые Карамзиным в произведении.
1. Черты книжного и разговорного синтаксиса
Карамзин и его сторонники ставят целью образовать доступный широкому читательскому кругу один язык «для книг и для общества», чтобы «писать, как говорят, и говорить, как пишут.» Этот новый язык должен быть языком русской «общественности», русской цивилизации, языком «хорошего светского общества». В понятии «хорошего общества» Карамзин не объединял интеллигенцию и простой народ. Поэтому «новый слог российского языка» не был достаточно демократичен. Он опирался на «светское потребление слов» и на хороший вкус европеизированных верхов общества. Тем не менее реформа, произведённая Карамзиным, значительно содействовала развитию и углублению национально объединяющих тенденций в русском литературном языке.
Воздействие французского языка изменяло формы слова, формы управления. Происходило разрушение связей между этимологическим строем слов и их синтаксическими свойствами. Переводя влияние, и несмотря на то, что глагол вливать требует предлога в: вливать вино в бочку, вливает в сердце ей любовь, располагают ново – выдуманное слово по французской грамматике, ставя его с предлогом на: Faire Linfluense sur Ies esprits –делать влияние на разумы.
Изменение синтактики слова могло выражаться также в проявлении форм управления падежами у таких имён, которые раньше в русском языке не имели дополнений. Таково, например, широкое распространение род. определит. пад. У имён существительных. Например, у Карамзина: «имеет природное нежное чувство изящного», «не имеют чувства истины», «занимаясь частями, теряем чувство целого».
Также под влиянием французского менялись синтаксические конструкции с глаголами: «отказываю себе всё, кроме самого необходимого». Вместе с тем французское влияние содействует стремительному росту предложно – аналитических конструкций как в глагольных, так и в именных синтагмах.
Под влиянием французского языка устанавливается логически прозрачный и естественный порядок слов в предложении, соответствующий синтаксическим тенденциям самого русского языка. И основная роль в этой синтаксической реформе принадлежала Н.М.Карамзину. Вводится как норма такой порядок слов:
1. подлежащее впереди сказуемого и дополнений;
2. имя прилагательное перед существительным, наречие перед глаголом; слова обозначающие свойство, употребляемые для замены прилагательных и наречий, ставятся на их места;
3. в сложном предложении слова и члены управляющие помещаются возле управляемых;
4. среди дополнений зависящих от глагола, - впереди дательный или творительный падежи, после всех – винительный падеж.
5. слова на вопрос: «где?», «когда», т.е. слова рисующие обстоятельства действия, ставятся перед глаголом; предложные обстоятельственные конструкции зависимые от сказуемого, следуют за ним;
6. все предложения должны быть после главных понятий;
7. «слова, которые потребно определить должно ставить впереди слов определяющих» - например, родительный падеж всегда после управляющего слова (житель лесов)
Например: «Юная кровь, разгорячённая сновидениями, красила нежные щеки её алеющим румянцем; солнечные лучи играли на белом её лице и, проницая сквозь чёрные пушистые ресницы, сияли в глазах ея светлее, нежели на золоте».
В области синтаксиса предложений, прежде всего происходит под влиянием французского языка разрушение той сложной периодической речи. Прежде, при долгих периодах «союзы были необходимы; но ныне опущение их, то есть союзов соединительных, особливую составляет приятность; а особливо стиль французской, от всех ныне принимаемой, не мало заимствует от сего красы своей.» Исключение ряда союзов и частиц (например, ибо, дабы, понеже, в силу, колико и др.) изменяло логику синтаксического движения.
Исключение архаических союзов и частиц обновило синтаксический строй. Под влиянием французского языка укрепляется присоединительное сочетание причастий или имени прилагательного (в обособленном употреблении) с относительным придаточным предложением (которое обычно начинается словами который или кой, реже – где и куда). Например, Карамзин писал: «Потом ввели всех в богатую залу, обитую чёрным сукном, и в которой окна были затворены», «Так называемый итальянский театр, но где играют одне французские мелодрамы, есть мой любимый спектакль».
Старые союзы приобретали под влиянием западноевропейских языков новые значения. Сокращение общего количества союзов возмещалось сложными формами синтаксической симметрии. Бессоюзные конструкции разнообразились прихотливыми приёмами смысловой связи, неожиданностями соседства.
В области синтаксиса воздействие французского языка умерялось и регулировалось влиянием живой русской разговорной речи.
Неотъемлемым признаком разговорного синтаксиса является диалог, его короткие неполные предложения:
«Подле меня сидит два немца – кажется, ремесленники, которые думая, что их никто не разумеет, свободно разговаривают между собою.
Что-то мы увидим в Англии! - сказал один.
Французы нам теперь известны; в них не много пути.
Думаю Англия нам не очень полюбится. Где лучше нашей
любезной Германии! Где лучше берегов Рейна!
Где лучше Веиндорфа! Там живёт Анюта.
Правда, там живёт Анюта. Недалеко оттуда живёт Лиза.
Ах! Недалеко!
Ещё шесть или семь месяцев.
Ещё шесть или семь месяцев и мы в Германии! – сказал другой.
И мы на берегу Рейна!
И мы в Веиндорфе!
Там где живёт Анюта!
Там, где живёт Лиза!
Дай бог! Дай бог! – сказали они в один голос и крепко пожали друг другу руки.
Карамзин признавался Каменеву Г.П., что, работая над созданием «нового слога Российского языка», он имел в голове некоторых иностранных авторов: сначала подражал им, но потом писал уже своим, ни от кого не заимствованным слогом.
Порядок слов в предложении, который предложил Н.М.Карамзин, признан нормальным для системы литературного языка. Но с этим литературным словорасположением не вполне согласуется «естественный порядок слов», присущий разговорному языку простого народа. Для простонародного языка обычным является сначала указание предмета, определяемого действием и, наконец, действующего предмета.
Таким образом, констатируется резкое различие в порядке слов между литературным языком и устным просторечием. Е.Станевич писал о соотношении французского «связанного» и русского свободного словорасположения: «Из всех новейших наречий французское более других отличается лёгким и ясным течением речи, составляя и располагая её по естественному порядку понятий: ибо французы наперёд поставляют лице или предмет речи, потом глагол, означающий действие, и наконец причину сего действия, то есть вещь или дело. Как ни изряден сей порядок для умствования, но по собственному же их признанию, он имеет тот недостаток, что противуречит чувствам, которые требуют поставления впереди вещи, коей всего прежде поражаются. По сей причине французский язык может быть удобнее в разговорах, но зато он не имеет той живости и того жанру, какой потребен в описаниях сильных, где говорят страсти, ниспровергающие упомянутый порядок.»
2. Группы лексики
При разработке «нового слога» Карамзин ориентируется на нормы французского языка и стремится уподобить русский литературный язык французскому, получивший широкое распространение как салонный разговорный язык высшего дворянства России. Карамзин ввёл в моду вносить в русский текст литературных произведений отдельные слова или целые фразы на иностранном языке в нетранслитерированной форме. Так в «Письмах русского путешественника» он пишет: «…Бедная англичанка, смотря на меня умильными и томными глазами, говорила: «Je suis mal, tres mal; ma poitrine se dechire – Dieu! Je crois mourir!»». В других случаях автор употребляет латинские выражения и рядом даёт перевод: «Многие кстати и не кстати восклицают: O tempora! O mores! О времена! О нравы! Многие жалуются на разврат…»
Однако чаще он калькирует французские слова и выражения, в результате чего под его пером появляются слова: промышленность (фр. Industrie), человечность (фр.humanite), тонкость, развитие и другие. Наряду с фразеологическими кальками типа «дух времени», «дух порядка», «дух закона» Карамзин очень часто прибегал к калькам лексическим: трогать – трогательный (трогательная сцена, трогательный взгляд), предмет (предмет мыслей, предмет чувств), развитый (развитый ум), утончённый (утончённый вкус). Этим несомненно Карамзин обогатил лексику русского литературного языка того времени.
Манерная перифрастическая фразеология была неотъемлемым признаком литературного языка конца 18 века. Тогда вместо солнце было принято говорить и писать светило дня; вместо глаза – зеркало души; вместо нос – врата мозга; сапожник – смиренный ремесленник; сабля – губительная сталь; весна – утро года, юность - утро лет. (Например: «Солнце закатилось. Я был поражён сею скорою переменою и готов был воскликнуть: « Так проходит слава мира сего! Так увядает роза юности! Так угасает светильник жизни!».
Во второй половине 18 века крепнет даже среди западнически настроенной русской интеллигенции убеждение в необходимости замены галлицизмов литературного языка национальными русскими соответствиями или подобиями. Характерно в этом смысле замещение французских слов русскими или книжнославянскими в позднейших редакциях «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина. Так, вояж заменено словом путешествие, визитация – осмотр, визит – посещение, партия за партиею – толпа за толпой, публиковать – объявить, интересный – занимательный, рекомендовать – представлять, литеральный – верный, мина – выражение, балансирование – прыганье, момент – мгновение, инсекты – насекомые, фрагмент – отрывок, энтузиазм – жар. Шишков приводит такие примеры старого и нового слога у Карамзина:
Старый слог Новый слог
Как приятно смотреть на Коль наставительно взирать тебя в твою молодость! раскрывающейся Весне твоей!
Луна светит. Бледная Геката отражает тусклые отсветки.
Окна заиндевели. Свирепая старица разрисовала стёкла.
Любуемся его выражениями. Интересуемся назидательностью его смысла.
Око далеко отличает прости - Многоездный тракт в пыли являет рающуюся по зелёному лугу контраст зрению пыльную дорогу.
Деревенским девкам навстречу Пёстрые толпы сельских ореал идут цыганки. Сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся фараонит.
Жалкая старушка, у которой на Трогательный предмет лице были написаны уныние сострадания которого уныло и горесть. задумчивая физиономия означала гипохондрию.
Какой благорастворённый воздух! Что я обоняю в развитии красот вожделеннейшего периода!
Как я любил путешествовать. Когда путешествие сделалось потребностью души моей.
Карамзин употребляет пословицы и поговорки, но правда в ограниченном количестве: «Себя казать и других смотреть», «незнакомец поклонился на все четыре стороны», « не верил глазам своим», «я не вольна сама себе».
«Карамзин имел огромное влияние на русскую литературу, - писал В.Г. Белинский, - он преобразовал русский язык, совлекши его с ходуль латинской конструкции и тяжёлой славянщины и приблизив к живой, естественной, разговорной русской речи. Он распространял в русском обществе познания, образованность, вкус и охоту к чтению. При нём и вследствие его влияния тяжёлый педантизм и школярство сменялись сентиментальностью и светскою легкостью, в которых много было странного, но которые были важным шагом вперёд для литературы общества».
3. Функции старославянской и старокнижной лексики в произведении
В текстах книжно-славянского типа заметную семантическую и экспрессивную роль играют сложные слова. Они признак книжности, их значение украшать текст, придавать ему торжественность. Немало сложных слов в «Письмах русского путешественника». В большинстве своём это имена существительные:
Трудолюбие, путеводитель, простодушие, легкомыслие, великолепие; и прилагательные:
Целомудренный, остроумнейший, красноречивая, мягкосердечный; но есть среди них и глаголы - лицемерствовать.
Риторическая украшённость и литературная изощрённость языка наиболее проявляется в использовании различных образных средств и приёмов. Самое распространённое это – сравнение (Например: «В ту самую минуту, как лодочник хотел уже отвалить от берега, явилась молодая девушка с пожилым мужчиною, - девушка лет двадцати, приятная, миловидная, в зелёной шляпке, в белом платье, с тростью в руках, - приближалась к лодке, порхнула в неё, как птичка, и с улыбкою сказала нашим путешественникам (которые как рыцари печального образа, сидели повеся головы) : «Bonjour, Messieurs!»…».
В составе сравнения встречаются и метафорическое употребление слов (Например: «Местоположение Лейпцига не так живописно как Дрездена; он лежит среди равнин, - но как сие равнины хорошо обработаны и так сказать убраны полями, садами, рощицами и деревеньками, то взор находит тут довольно разнообразия и не скоро утомляется. Окрестности дрезденские прекрасны, а Лейпцигские милы. Первые можно уподобить такой женщине, о которой все при первом взгляде кричат: «Какая красавица!», а последние – такой, которая всем же нравится, но только тихо, которую все же хвалят, но только без восторга; о которой с кротким, приятным движением души говорят: «Она миловидна!»…».
Постоянное тяготение к иносказательности символичности выражения сказывается в частом употреблении словосочетаний, в которых имена существительные со значением конкретного лица, предмета или явления выступают с метафорически – отвлечённым, абстрактным значением: путь жития, дух общественности, климат кроткий.
Наблюдая над соотношением в языке «Писем русского путешественника» старославянских и старокнижных вариантов в фонетическом облике слов и в морфологических формах свидетельствуют о значительном преобладании старославянских. В фонетическом облике:
1) слов со старославянским жд преобладающее количество - прежде, между, осуждать; хотя и встречаются старокнижные с ж – преже, осужают.
2) слов со старославянским щ значительно больше чем слов с ч – всего один раз Печора и 5 раз пещера
3) слов с начальным ра больше
Равнина - 12,
Равный - 14 (ровный – 1, ровно - 3),
Разные - 14,
Разница - 7(розница - 2)
4) слов с неполногласием меньше:
Берег- 47, тогда как брег 3;
Молодой – 79, младенец – 8;
Через – 43, чрез – 6, чрезмерно - 11;
Холод – 7, хладнокровно -3, хладная 2;
Норов – 1, нравственный – 8;
Перед – 24, пред - 6;
Середина - 6, средина – 5;
Ворота – 9, врата – 3;
Здоровие – 4, здравие – 1;
Золото – 20, златые стихи -1;
Cторона – 14, страна – 21.
5) начальное я употребляется в каждой главе несколько раз, но лишь один раз во всём произведении употребляется аз.
К словообразовательным признакам старославянизмов относятся некоторые аффиксы и модели образования сложных слов, которые встречаются в произведении:
1) приставки из-(ис-), низ-(нис-), воз-(вос), со-: избрать, извозить, извозчик, избирать, изменно, изрядно, изломать, искривить, низвергать, нисподать, воздать, возлюбить, собрат, сопутник, соразмерный.
2) суффиксы существительных –тель, -ч(ий), - енец, -ени(-е), -ство, -знь: младенец, правительство, творение,существо, богобоязнь.
3)безударное окончание –ый прилагательных, местоимений, причастий мужского рода: новый, самый, молочный, путешествуемый.
4) первые части сложений
Добро- добродушный, добросердечный, добродетель;
Зло- злословие, злодеяние, злосчастный,
Благо- благодарный, благосклонный, благословенный, благополучно, благовестят, благочестивейший, благоденствие;
Бого- богобоязнь, богоугодный, богопочитаемый;
Суе- суеверный.
В «Письмах русского путешественника» славянизмы выполняют следующие функции:
1. создание высокого, торжественного стиля и колорита эпохи:
«Я хотел при новом издании многое переменить в сих «Письмах», и… не переменил почти ничего. Как они были писаны, как удостоились лестного благоволения публики, пусть так и остаются. Пестрота, неровность в слоге есть следствие различных предметов, которые действовали на душу молодого, неопытного русского путешественника; он сказывал друзьям своим, что ему приключалось, что он видел, слышал, чувствовал, думал, - и описывал свои впечатления не на досуге, не в тишине кабинета, а где и как случалось, дорогою, на лоскутах, карандашом...».
2. создание поэтического стиля, поэтических образов в тексте:
«Гейлигенбейль, маленький городок в семи милях от Кенигсберга, приводит на мысль времена язычества. Тут возвышался некогда величественный дуб, безмолвный свидетель рождения и смерти многих веков, - дуб, священный для древних обитателей сей земли. Под мрачною его тенью обожали они идола Курхо, приносили ему жертвы и славили его в диких своих гимнах. Вечное мерцание сего естественного храма и шум листьев наполняли сердце ужасом, в который жрецы язычества облекали благопочитание. Так друиды в густоте лесов скрывали свою религию; так глас греческих оракулов исходил из глубины мрака! – Немецкие рыцари в третьем-надесять веке, покорив мечом Пруссию, разрушили олтари язычества и на их развалинах воздвигнули храм христианства. Гордый дуб, почтенный старец в царстве растений, притыкание бурей и вихрей, пал под сокрушительною рукой победителей, уничтожавших все памятники идолопоклонничества: жертва невинная!…»
3. версификационная функция:
Кто ж милых не терял? Оставь холодный свет
И горесть разделяй с унылыми древами,
С кристаллом томных вод и с нежными цветами:
Чувствительный во всём друзей себе найдёт.
Там урну хладную с любовью осеняют
Тополь высокий, бледный тис
И ты, друг мёртвых, кипарис!
Печальные сердца твою приятность знают,
Любовник нежный мирты рвёт,
Для славы гордый лавр растёт;
Но ты милее тем, которые стенают
Над прахом счастья и друзей!
В «Письмах русского путешественника» мы видим как старокнижный и старославянский типы языка сблизились и дополнили друг друга, обогатив при этом словарный запас русского литературного языка.
4. Влияние литературного стиля.
Сдвиги в русском литературном языке последней трети 18 века отразились с стилистической системе, созданной главой русского консервативного сентиментализма Н.М. Карамзиным и получившей тогда название «нового слога». Перед Карамзиным стояли выдвинутые эпохой задачи: чтобы начали писать, как говорят, и чтобы стали говорить как пишут, но в светском обществе либо говорили по французски, либо пользовались просторечием. Назваными двумя задачами определяется сущность стилистической реформы Карамзина.
Литературный язык преобразуется под влиянием «светского употребления слов и хорошего вкуса». Словарь облегчается от излишней тяжести. Из него исключаются большинство слов которые хоть краем соприкасаются с сферой какой-нибудь специальности. Из него выкидываются слова областного, провинциального происхождения, домашние или простонародные, словом, всё то, что могло бы шокировать светскую даму.
Живая речь вовлекалась в сферу этого изысканного языка в ничтожном количестве и со строгим отбором.
Нормы стилистической оценки определялись бытовым и идейным назначением предмета, его положением в системе других предметов, «высотой» или «низостью» идеи. «Один мужик говорит пичужечка и парень: первое приятно, второе отвратительно, - пишет Карамзин в письме к И.И. Дмитриеву. – При первом слове воображаю красный летний день, зелёное дерево на цветущем лугу, птичье гнездо, порхающую малиновку или пеночку, и покойного селянина, который с тихим удовольствием смотрит на природу и говорит: «Вот гнездо, вот пичужечка»! При втором слове является моим мыслям дебёлый мужик, который чешется непристойным образом или утирает рукавом мокрые усы свои, говоря: «Ай, парень! Что за квас!» Надобно признаться, что тут нет ничего интересного для души нашей». «Имя пичужечка, - продолжает Карамзин, - для меня отменно приятно потому, что я слыхал его в чистом поле от добрых поселян. Оно возбуждает в душе нашей две идеи о свободе и сельской простоте.»
Все слова и фразы, которые относились к слогу «грубому, сухому и надутому», то есть выражения простонародные, низкие, официально-канцелярские, специальные, профессиональные, церковнославянские, в этом стиле были запрещены. Язык салона и возникавшие на почве его литературные стили были далеки от разнообразия бытовых вариаций речи.
Критерием стилистической оценки, законодателем норм литературности провозглашается вкус «светской женщины». Этот салонный вкус не мирится с церковнославянизмами, не соответствовавшими нормам «светского вкуса» и канцеляризмами.
На почве русско-французской системы фразовых сочетаний возник новый литературный стиль со своеобразными формами метафоризации, со специфическими условными типами перифраз, не поддающихся непосредственной этимологизации и прямому предметном осмыслению, с манерною изысканностью приёмов экспрессивного выражения. Устойчивая система литературной фразеологии, условной и пышной, состоящей из перифраз и метафор, была характерна для салонного риторического стиля. Эта была обширная область иносказаний, через которые трудно было пробраться к точному предметно – бытовому значению слов церковно-книжному языку, сила которого заключалась в богатой фразеологии.
Таким образом, границы литературного языка сужались. Обречён был на отмирание целый ряд жанров в высоком и даже среднем славянском слоге.
Задача европеизированных верхов общества заключалась в том, чтобы из фонда слов и выражений, который составлял общее владение русского книжного и литературного языка, с захватом смежных сфер литературы и просторечия, создать формы общественного «красноречия», далёкого от приказных и церковных стилей, чуждого всякой «простонародности», ориентируясь на французский язык и на риторику «благородного» буржуазно - дворянского круга. Различия между стилями салонно-литературного языка было обусловлено степенью риторической изощрённости. «Высокий слог должен отличаться не словами или фразами, но содержанием, мыслями, чувствованиями, картинами, цветами поэзии», - писал П.Макаров, один из сторонников Карамзина.
5. Принципы, используемые Карамзиным в произведении
«Письма русского путешественника» - одно из крупнейших и популярнейших произведений русской литературы конца ХVIII века. «Письма» оказали большое влияние на несколько поколений писателей. Они быстро стали известны на Западе – в начале ХIХ века они дважды вышли на немецком языке, в 1802 году были переведены на польский язык, в 1803 – на английский, а в 1815 – на французский.
Создание «нового слога» русской литературной речи, который должен был органически сочетать национально-русские и общеевропейские формы выражения и решительно порвать с архаической традицией церковнославянской письменности, было связано с именем Карамзина. Карамзин стремился во всех литературных жанрах сблизить письменный язык с живой разговорной речью образованного общества. Однако, считая русский общественно-бытовой язык недостаточно обработанным, Карамзин надеялся поднять его идеологический уровень и усилить его художественно-выразительные средства с помощью западноевропейской культуры литературного слова. Он призывал писателей к заимствованию иностранных слов и оборотов или к образованию соответствующих русских для выражения новых идей и в своей литературной деятельности дал яркие образцы словотворчества (например, такие образования, как влюблённость, будущность, общественность, человечный, общеполезный, достижимый, усовершенствовать). Стараясь привить русскому языку отвлечённые понятия и тонкие оттенки выражения мысли и чувства, Карамзин расширил круг значений соответствующих русских или обрусевших церковнославянских слов (например образ – в применении к поэтическому творчеству, потребность, развитие, тонкости, отношения, положения и др.)
Освобождая русский литературный язык от излишнего груза церковнославянизмов и канцеляризмов (вроде: учинить, изрядство) Карамзин ставил своей задачей образовать доступный широкому читательскому кругу один язык «для книг и для общества, чтобы писать, как говорят, и говорить, как пишут».
Карамзин производит новую грамматическую реформу русского литературного языка, отменяющую устарелые нормы Ломоносовской грамматики трёх стилей. Он выдвигает лозунг борьбы с громоздкими, запутанными, беззвучными или патетически – ораторскими, торжественно-декламативными конструкциями, которые отчасти были унаследованы от церковно-славянской традиции, отчасти укоренились под влиянием латино-немецкой учёной речи.
Принцип произносимой речи, принцип лёгкого чтения литературного текста, принцип перевода стиха и прозы, свободное от искусственных интонаций высокого слога, ложатся в основу новой стилистики..
Значение Карамзина в совершенствовании средств литературного выражения Белинский характеризовал следующим образом: «Карамзин отметил своим именем целую эпоху в нашей словесности, и его влияние на современников было велико и сильно».Но в тоже время Белинский видел ограниченность карамзинской реформы литературного языка. Равнение на салон, на иноязычные нормы выражения – всё это в совокупности суживало возможности развития языка, вело к тому, что стиль изящной литературы в конце концов стал бы замкнутым и бедным в средствах.
Понять своеобразие и ограниченность позиции Карамзина можно при учёте самой эпохи когда, по выражению Гоголя, «русская поэзия по выходе из церкви оказалась на балу». «Письма русского путешественника» явились своеобразной энциклопедией, запечатлевшей жизнь Запада накануне и во время величайшего события конца 18 века – в эпоху французской революции.
Автор в предисловии ко второму изданию писем говорит о том, что решил не менять стиль повествования, и описывать события так, как путешественник их видит, со всеми эмоциями, без сухих описаний или излишнего внимания к деталям. Путешествие его началось в мае 1789 года.
Первое письмо повествует, что автор тяжело испытывал расставание с родиной и близкими людьми. Однако, трудности, возникавшие у путешественника в дороге, отвлекали его от дурных мыслей. По прибытии в Петербург оказалось, что полученный в Москве паспорт недействителен для морских путешествий, в связи с чем Путешественник был вынужден изменить маршрут на сухопутный.
Автор отчаянно желал посетить Кенигсберг, ради встречи с Кантом, известным философом. Путешественник отправился к нему сразу по прибытию в город, и получил теплый прием. Он отметил, что у Канта все довольно просто, "кроме его метафизики".
Оказавшись в Берлине, Путешественник тут же отправился в Королевскую библиотеку, а затем в берлинский зверинец. После посещения Сан-Суси он высказал замечание, что замок выставляет короля Фридриха скорее как деятеля искусств, нежели правителя.
В Дрездене писатель не преминул посетить картинную галерею, после посещения которой он, помимо впечатлений от картин, приложил к письмам еще и краткие биографии художников. Затем Путешественник отправился в Дрезденскую библиотеку, которая поразила его количеством собранных книг и происхождением части древних рукописей.
Следующим пунктом путешествия был Лейпциг. Город выделялся огромным количеством книжных магазинов, впрочем, для города, где три раза в год устраивают книжные ярмарки, это не удивительно.
Проезжая Франкфурт-на-Майне, Путешественник отмечает невероятную красоту природы в тех местах. Однако, после пересечения французской границы он неожиданно оказывается в Швейцарии, не распространяясь в письмах о причинах смены маршрута.
Поездка по Швейцарии началась с города Базеля. В следующем городе, Цюрихе, автор не раз пересекался с Лафатером, также не преминув сходить на несколько его публичных выступлений. После этого автор нередко отмечал в письмах время, а не дату событий.
Лозанну Путешественник осматривал с книгой "Элоиза" за авторством Руссо, чтобы сравнить литературные описания тех мест с собственными впечатлениями.
Не обошел он вниманием и родину Вольтера, деревушку Ферней. Особо отметил Путешественник, что на стене спальни писателя висит портрет российской императрицы, что его немало порадовало.
Спустя несколько месяцев, Путешественник отправился во Францию. О происходившем во Франции автор предпочитает писать осторожно, упомянув, к примеру, случайную встречу с графом Д"Артуа, направлявшимся в Италию. Поездку по Франции он начал с Лиона, где посетил трагедию Шенье "Карл IX". Особо он отметил эмоции зрителей, воочию увидевших текущее состояние Франции.
Следующим городом, принявшим Путешественника, был великий Париж. О нем автор говорит много, приводя подробные описания людей, улиц, зданий. Также он упоминает о случайно увиденной им в церкви королевской семье, отметив фиолетовые одежды ее членов (что означает траур). Автор не обошел вниманием и пьесу Бульи "Петр Великий", в которой его позабавило непонимание и актерами, и сценаристами, особенностей российского быта.
Путешественник, казалось, обошел все места в Париже: это и театры, Академии, литературные дома, и множество небольших кофеен. Последние выделялись тем, что там можно было публично обсуждать политику и литературу, можно было увидеть и знаменитостей.
Особенно поразило Путешественника то, что незрячие и глухонемые дети из специальных школ умеют читать, писать, и даже рассуждать на абстрактные темы, а специальный выпуклый шрифт давал слепым возможность читать те же произведения, что и здоровым людям.
Но, как ни жаль было Путешественнику прощаться с красотами Булонского леса и Версаля, настало время продолжать путешествие, и следующим пунктом в нем был Лондон. Эти два города - Париж и Лондон - были двумя "маяками" при составлении плана поездки.
В Англии Путешественник сразу отметил, что англичане хоть и знают в большинстве своем французский, но разговаривать предпочитают на английском. У автора при этом вызывает сожаление, что в России без французского языка в высшем обществе никак не обойтись.
Желая вникнуть в юридическую систему англичан, Путешественник посещал суды и тюрьмы, отмечая детали судопроизводства и содержания под стражей преступников. Особо он упоминал суды присяжных, в которых судьба осужденного зависит не только от сухих букв закона, но и от решения других людей.
Посещение больницы для сумасшедших - Бедлама - вызвало у автора думы о причинах безумия в нынешний век. Он пришел к выводу, что нынешний образ жизни способен свести с ума как ребенка, так и почтенного старца.
В целом, несмотря на обилие примечательных вещей, автор приходит к выводу, что Лондону с Парижем все же не сравниться.
Отдельно Путешественник останавливается на описании нравов людей из разных слоев общества. В семейной жизни лондонцев его удивило, что для англичан выход в свет - значимое событие, в то время как в русском высшем обществе принято находиться в гостях или принимать их как можно чаще.
Английскую литературу автор жестко критикует, отмечая из всех трагиков одного лишь Шекспира, а остальных обвиняя в слабости характера.
Покидает Англию Путешественник без сожаления, но указав, что с удовольствием вернулся бы туда снова.
Обращаем ваше внимание, что это только краткое содержание литературного произведения «Письма русского путешественника». В данном кратком содержании упущены многие важные моменты и цитаты.
Николай Михайлович Карамзин
Письма русского путешественника
Я хотел при новом издании многое переменить в сих «Письмах», и… не переменил почти ничего. Как они были писаны, как удостоились лестного благоволения публики, пусть так и остаются. Пестрота, неровность в слоге есть следствие различных предметов, которые действовали на душу молодого, неопытного русского путешественника: он сказывал друзьям своим, что ему приключалось, что он видел, слышал, чувствовал, думал, – и описывал свои впечатления не на досуге, не в тишине кабинета, а где и как случалось, дорогою, на лоскутках, карандашом. Много неважного, мелочи – соглашаюсь; но если в Ричардсоновых, Фильдинговых романах без скуки читаем мы, например, что Грандисон всякий день пил два раза чай с любезною мисс Бирон; что Том Джонес спал ровно семь часов в таком-то сельском трактире, то для чего же и путешественнику не простить некоторых бездельных подробностей? Человек в дорожном платьи, с посохом в руке, с котомкою за плечами не обязан говорить с осторожною разборчивостью какого-нибудь придворного, окруженного такими же придворными, или профессора в шпанском парике, сидящего на больших, ученых креслах. – А кто в описании путешествий ищет одних статистических и географических сведении, тому, вместо сих «Писем», советую читать Бишингову «Географию».
Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!
О сердце, сердце! Кто знает: чего ты хочешь? – Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения? Не в восторге ли сказал я самому себе: наконец ты поедешь? Не в радости ли просыпался всякое утро? Не с удовольствием ли засыпал, думая: ты поедешь? Сколько времени не мог ни о чем думать, ничем заниматься, кроме путешествия? Не считал ли дней и часов? Но – когда пришел желаемый день, я стал грустить, вообразив в первый раз живо, что мне надлежало расстаться с любезнейшими для меня людьми в свете и со всем, что, так сказать, входило в состав нравственного бытия моего. На что ни смотрел – на стол, где несколько лет изливались на бумагу незрелые мысли и чувства мои, на окно, под которым сиживал я подгорюнившись в припадках своей меланхолии и где так часто заставало меня восходящее солнце, на готический дом, любезный предмет глаз моих в часы ночные, – одним словом, все, что попадалось мне в глаза, было для меня драгоценным памятником прошедших лет моей жизни, не обильной делами, но зато мыслями и чувствами обильной.
С вещами бездушными прощался я, как с друзьями; и в самое то время, как был размягчен, растроган, пришли люди мои, начали плакать и просить меня, чтобы я не забыл их и взял опять к себе, когда возвращуся. Слезы заразительны, мои милые, а особливо в таком случае.
Но вы мне всегда любезнее, и с вами надлежало расстаться. Сердце мое так много чувствовало, что я говорить забывал. Но что вам сказывать! – Минута, в которую мы прощались, была такова, что тысячи приятных минут в будущем едва ли мне за нее заплатят.
Милый Птрв. провожал меня до заставы. Там обнялись мы с ним, и еще в первый раз видел я слезы его; там сел я в кибитку, взглянул на Москву, где оставалось для меня столько любезного, и сказал: прости! Колокольчик зазвенел, лошади помчались… и друг ваш осиротел в мире, осиротел в душе своей!
Все прошедшее есть сон и тень: ах! где, где часы, в которые так хорошо бывало сердцу моему посреди вас, милые? – Если бы человеку, самому благополучному, вдруг открылось будущее, то замерло бы сердце его от ужаса и язык его онемел бы в самую ту минуту, в которую он думал назвать себя счастливейшим из смертных!..
Во всю дорогу не приходило мне в голову ни одной радостной мысли; а на последней станции к Твери грусть моя так усилилась, что я в деревенском трактире, стоя перед карикатурами королевы французской и римского императора, хотел бы, как говорит Шекспир, выплакать сердце свое. Там-то все оставленное мною явилось мне в таком трогательном виде. – Но полно, полно! Мне опять становится чрезмерно грустно. – Простите! Дай бог вам утешений. – Помните друга, но без всякого горестного чувства!
Прожив здесь пять дней, друзья мои, через час поеду в Ригу.
В Петербурге я не веселился. Приехав к своему Д*, нашел его в крайнем унынии. Сей достойный, любезный человек (Его уже нет в здешнем свете.) открыл мне свое сердце: оно чувствительно – он несчастлив!.. «Состояние мое совсем твоему противоположно, – сказал он со вздохом, – главное твое желание исполняется: ты едешь наслаждаться, веселиться; а я поеду искать смерти, которая одна может окончить мое страдание». Я не смел утешать его и довольствовался одним сердечным участием в его горести. «Но не думай, мой друг, – сказал я ему, – чтобы ты видел перед собою человека, довольного своею судьбою; приобретая одно, лишаюсь другого и жалею». – Оба мы вместе от всего сердца жаловались на несчастный жребий человечества или молчали. По вечерам прохаживались в Летнем саду и всегда больше думали, нежели говорили; каждый о своем думал. До обеда бывал я на бирже, чтобы видеться с знакомым своим англичанином, через которого надлежало мне получить векселя. Там, смотря на корабли, я вздумал было ехать водою, в Данциг, в Штетин или в Любек, чтобы скорее быть в Германии. Англичанин мне то же советовал и сыскал капитана, который через несколько дней хотел плыть в Штетин. Дело, казалось, было с концом; однако ж вышло не так. Надлежало объявить мой паспорт в адмиралтействе; но там не хотели надписать его, потому что он дан из московского, а не из петербургского губернского правления и что в нем не сказано, как я поеду; то есть, не сказано, что поеду морем. Возражения мои не имели успеха – я не знал порядка, и мне оставалось ехать сухим путем или взять другой паспорт в Петербурге. Я решился на первое; взял подорожную – и лошади готовы. Итак, простите, любезные друзья! Когда-то будет мне веселее! А до сей минуты все грустно. Простите!
Вчера, любезнейшие друзья мои, приехал я в Ригу и остановился в «Hotel de Petersbourg». Дорога меня измучила. Не довольно было сердечной грусти, которой причина вам известна: надлежало еще идти сильным дождям; надлежало, чтобы я вздумал, к несчастью, ехать из Петербурга на перекладных и нигде не находил хороших кибиток. Все меня сердило. Везде, казалось, брали с меня лишнее; на каждой перемене держали слишком долго. Но нигде не было мне так горько, как в Нарве. Я приехал туда весь мокрый, весь в грязи; насилу мог найти купить две рогожи, чтобы сколько-нибудь закрыться от дождя, и заплатил за них по крайней мере как за две кожи. Кибитку дали мне негодную, лошадей скверных. Лишь только отъехали с полверсты, переломилась ось: кибитка упала и грязь, и я с нею. Илья мой поехал с ямщиком назад за осью, а бедный ваш друг остался на сильном дожде. Этого еще мало: пришел какой-то полицейский и начал шуметь, что кибитка моя стояла среди дороги. «Спрячь её в карман!» – сказал я с притворным равнодушием и завернулся в плащ. Бог знает, каково мне было в эту минуту! Все приятные мысли о путешествии затмились в душе моей. О, если бы мне можно было тогда перенестись к вам, друзья мои! Внутренне проклинал я то беспокойство сердца человеческого, которое влечет нас от предмета к предмету, от верных удовольствий к неверным, как скоро первые уже не новы, – которое настроивает к мечтам наше воображение и заставляет нас искать радостей в неизвестности будущего!