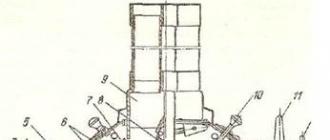Сегодня день рождения Иосифа Бродского. Думаю, это хороший повод рассказать про книги о нем.
Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским
Сборник пространных интервью поэта, каждое из которых посвящено или определенному периоду жизни или кому-то из "учителей" (Ахматова, Оден, Фрост). На мой вкус, лучшая книга о Бродском, потому что кто же лучше расскажет о художнике, если не он сам. Отдельное удовольствие в том, что тексты ответов не приглажены, и можно почувствовать интонации Бродского, его иронию (в которую Волков несколько раз очень смешно не врубается, между прочим). Другие книги о Бродском после "Разговоров" часто кажутся ненужными повторениями.
Лев Лосев. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии
"Литературность" этой биографии не в том, что Байрону преспокойно подсовывается сон, извлеченный из его же поэмы
, а в том, что это биография не столько человека (как в книге Волкова), сколько поэта. По сути дела, это цепочка очерков, касающихся ключевых моментов биографии, их отражения в творчестве, некоторых аспектов поэтики (истоки и влияния, темы и мотивы, метрика и ритм, etc.). Лосев создал биографию образцовую: строгую, корректную, беспристрастную. За одну только фразу "но на самом деле мы об этом ничего не знаем" ему следовало бы поставить памятник.
Иосиф Бродский. Книга интервью
Здоровенный (под 800 страниц) том интервью, кому только (от друзей вроде Томаса Венцловы до неизвестных репортеров) и когда только (1972-1995 гг.) не данных. Чтение специфическое, поскольку и в вопросах, и в ответах много повторов. Однако попадаются и любопытные подробности, каких не встретишь в других книгах. Например, в одной из бесед Бродский рассказывает, как в молодоски выучил польский и еще в Ленинграде умудрялся читать Сартра, Ионеско, Фолкнера и прочих, покупая польские переводы в магазине книг стран народной демократии.
Людмила Штерн. Бродский: Ося, Иосиф, Joseph
Воспоминания близкой знакомой Бродского, которая общалась с ним начиная с конца 50-х и до конца его жизни (отсюда и трехчастное название). Это именно что воспоминания, бесценные в своей случайности. Много бытовых и личных подробностей, разнообразных анекдотов, и Бродский в этой книге не столько поэт и лауреат, сколько живой меняющийся человек. Раскрыта также вечная тема женских мемуаров "Я и Пушкин". Когда Штерн пишет о Марине Басмановой, между строк отчетливо читается: "Нашел в кого влюбиться, со мной бы ему гораздо лучше было".
Валентина Полухина. Иосиф Бродский: жизнь, труды, эпоха
Книжка-хроника, в которой события жизни перемежаются с документами и кусочками воспоминаний. Читать эту мешанину из дат, имен и названий сложно, да едва ли и нужно. Идеальное назначение этой книжки - справочное. Впрочем, хороший справочный аппарат (составленный той же Полухиной) есть и в биографии Лосева.
Владимир Уфлянд. "Если Бог пошлет мне читателей..."
В этой книжке Бродский - персонаж баек и легенд, которые рассказывает не кто-нибудь, а замечательный ленинградкий поэт и опять-таки друг Бродского. Байки совершенно хармсообразные. Например, как Бродский решил спать на крыше Смольного собора, полез на него с раскладушкой, засмотрелся на панораму Питера, уронил раскладушку вниз, раскладушка упала на милиционера, охранявшего Смольный, итд.
Игорь Ефимов. Нобелевский тунеядец
Единственная книга, на которую я не советую тратить ни денег, ни время. Тоненькая брошюрка, в которой обрывки воспоминаний о Бродском втиснуты между подробными описаниями того, как писатель Ефимов выезжал в заграничные командировки и учился в советском литинституте. Еще примерно треть брошюрки занимают письма писателя Ефимова к поэту Бродскому (ответы Бродского отсутствуют). В общем и целом мы имеем массу сведений о писателе Ефимове, поклонникам которого и стоит порекомендовать этот опус. К Бродскому он имеет весьма косвенное отношение.
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
Шрифт:
100% +
Людмила Штерн
Поэт без пьедестала
Воспоминания об Иосифе Бродском
Светлой памяти дорогих и любимых Гены Шмакова, Алекса и Татьяны Либерман
Я считаю своим приятным долгом выразить глубокую благодарность друзьям Иосифа Бродского и моим друзьям за неоценимую помощь, которую они оказали мне при написании этих воспоминаний.
Я очень обязана замечательному фотографу, хроникеру нашего поколения Борису Шварцману за разрешение использовать его уникальные фотографии в этой книге.
Спасибо Мише Барышникову, Гарику Воскову, Якову Гордину, Галине Дозмаровой, Игорю и Марине Ефимовым, Ларисе и Роману Капланам, Мирре Мейлах, Михаилу Петрову, Евгению и Надежде Рейн, Ефиму Славинскому, Галине Шейниной, Юрию Киселеву и Александру Штейнбергу за письма и материалы из их личных архивов.
Я также пользовалась дружескими советами Льва Лосева и Александра Сумеркина, которых, к моему глубокому сожалению, не могу поблагодарить лично.
И, наконец, – бесконечная признательность моему мужу Виктору Штерну за неизменную поддержку постоянно сомневающегося в себе автора.
ОТ АВТОРА
За годы, прошедшие со дня смерти Иосифа Бродского, не было дня, чтобы я не вспоминала о нем. То, занимаясь чем-то, с литературой никак не связанным, бормочу его стихи, как иногда мы напеваем под нос неотвязный мотив; то вспыхнет в мозгу отдельная строчка, безошибочно определяющая душевное состояние этой минуты. И в самых разных ситуациях я задаю себе вопрос: «А что бы сказал об этом Иосиф?»
Бродский был человеком огромного масштаба, сильной и значительной личностью, обладавшей, к тому же, редким магнетизмом. Поэтому для тех, кто близко его знал, его отсутствие оказалось очень болезненным. Оно как бы пробило ощутимую брешь в самой фактуре нашей жизни.
Писать воспоминания об Иосифе Бродском трудно. Образ поэта, сперва непризнанного изгоя, преследуемого властями, дважды судимого, побывавшего в психушках и в ссылке, выдворенного из родной страны, а затем овеянного славой и осыпанного беспрецедентными для поэта при жизни почестями, оказался, как говорят в Америке, «larger than life», что вольно можно перевести – грандиозный, величественный, необъятный.
Бродский при жизни стал классиком и в этом качестве уже вошел в историю русской литературы второй половины ХХ века. И хотя известно, что у классиков, как и у простых людей, имеются друзья, заявление мемуариста, что он (она) – друг (подруга) классика, вызывает у многих недоверие и подозрительные ухмылки.
Тем не менее за годы, прошедшие со дня его кончины, на читателей обрушилась лавина воспоминаний, повествующих о близких отношениях авторов с Иосифом Бродским. Среди них есть аутентичные и правдивые заметки людей, действительно хорошо знавших поэта в различные периоды его жизни. Но есть и недостоверные басни. При чтении их создается впечатление, что Бродский был на дружеской ноге – выпивал, закусывал, откровенничал, стоял в одной очереди сдавать бутылки, советовался и делился сокровенными мыслями с несметным количеством окололитературного люда.
Дружить, или, хотя бы, быть лично знакомым с Бродским сделалось необходимой визитной карточкой человека «определенного круга».
«Надрались мы тогда с Иосифом», или: «Ночью заваливается Иосиф» (из воспоминаний ленинградского периода), или: «Иосиф затащил меня в китайский ресторан», «Иосиф сам повез меня в аэропорт» (из мемуара залетевшего в Нью-Йорк «друга») – такого рода фразы стали расхожим паролем для проникновения в сферы. Недавно на одной московской тусовке некий господин рассказывал с чувством, как он приехал в Шереметьево провожать Бродского в эмиграцию и каким горестным было их прощание. «Вы уверены, что он улетал из Шереметьева?» – спросила бестактная я. «Откуда ж еще», – ответил «друг» поэта, словно окатив меня из ушата…
Удивительно, что при такой напряженной светской жизни у Бродского оказывалась свободная минутка стишата сочинять. (Употребление слова стишата не является с моей стороны амикошонством. Именно так Бродский называл свою деятельность, тщательно избегая слово творчество .)
Полагаю, что и сам Иосиф Александрович был бы приятно удивлен, узнав о столь многочисленной армии близких друзей.
…Иосиф Александрович… Мало кто величал Бродского при жизни по имени-отчеству. Разве, что в шутку его американские студенты. Я назвала его сейчас Иосифом Александровичем, ему же и подражая. У Бродского была симпатичная привычка величать любимых поэтов и писателей по имени-отчеству. Например: «У Александра Сергеевича я заметил…» Или: «Вчера я перечитывал Федор Михалыча»… Или: «В поздних стихах Евгения Абрамыча…» (Баратынского. – Л. Ш. ).
Фамильярный, как может показаться, тон моей книжки объясняется началом отсчета координат. Для тех, кто познакомился с Бродским в середине семидесятых, то есть на Западе, Бродский уже был Бродским. А для тех, кто дружил или приятельствовал с ним с конца пятидесятых, он долгие годы оставался Осей, Оськой, Осенькой, Осюней. И только перевалив за тридцать, стал и для нас Иосифом или Жозефом.
Право писать о Бродском «в выбранном тоне» дают мне тридцать шесть лет близкого с ним знакомства. Разумеется, и в юности, и в зрелом возрасте вокруг Бродского были люди, с которыми его связывали гораздо более тесные отношения, чем с нашей семьей. Но многие друзья юности расстались с Иосифом в 1972 году и встретились вновь шестнадцать лет спустя, в 1988. На огромном этом временном и пространственном расстоянии Бродский хранил и любовь, и привязанность к ним. Но за эти годы он прожил вторую, совсем другую жизнь, приобретя совершенно иной жизненный опыт. Круг его знакомых и друзей невероятно расширился, сфера обязанностей и возможностей радикально изменилась. Иной статус и почти непосильное бремя славы, обрушившееся на Бродского на Западе, не могли не повлиять на его образ жизни, мироощущение и характер. Бродский и его оставшиеся в России друзья юности оказались в разных галактиках. Поэтому, шестнадцать лет спустя, в отношениях с некоторыми из них появились заметные трещины, вызванные или их непониманием возникших перемен, или нежеланием с ними считаться.
В Штатах у Бродского, помимо западных интеллектуалов, образовался круг новых русских друзей. Но они не знали рыжего, задиристого и застенчивого Осю. В последние пятнадцать лет своей жизни он постепенно становился не просто непререкаемым авторитетом, но и мэтром, Гулливером мировой поэзии. И новые друзья, естественно, относились к нему с почти религиозным поклонением. Казалось, что в их глазах он прямо-таки мраморел и бронзовел в лучах восходящего солнца.
…Наше семейство оказалось в несколько особом положении. Мне посчастливилось оказаться в том времени и пространстве, когда будущее солнце Иосиф Александрович Бродский только-только возник на периферии сразу нескольких ленинградских галактик.
Мы познакомились в 1959 году и в течение тринадцати лет, вплоть до его отъезда в эмиграцию в 1972 году, проводили вместе много времени. Он любил наш дом и часто бывал у нас. Мы были одними из первых слушателей его стихов.
А три года спустя после его отъезда наша семья тоже переселилась в Штаты. Мы продолжали видеться и общаться с Бродским до января 1996 года. Иначе говоря, мы оказались свидетелями почти всей его жизни.
Эта давность и непрерывность определила специфику наших отношений. Бродский воспринимал нас с Виктором почти как родственников. Может быть, не самых близких. Может быть, не самых дорогих и любимых. Но мы были из его стаи, то есть – «абсолютно свои».
Иногда он раздражался, что я его опекаю, как еврейская мама, даю непрошеные советы и позволяю себе осуждать некоторые поступки. Да еще тоном, который давно никто себе не позволяет.
Но, с другой стороны, передо мной не надо ни казаться, ни красоваться. Со мной можно не церемониться, можно огрызнуться, цыкнуть, закатить глаза при упоминании моего имени. Мне можно дать неприятное поручение, а также откровенно рассказать то, что мало кому расскажешь, попросить о том, о чем мало кого попросишь. Ему ничего не стоило позвонить мне в семь часов утра и пожаловаться на сердце, на зубную боль, на бестактность приятеля или истеричный характер очередной дамы. А можно и в полночь позвонить – стихи почитать или спросить, «как точно называется предмет женского туалета, чтобы был вместе и бюстгальтер, и пояс, к которому раньше пристегивали чулки». (Мой ответ: «грация».) «А корсет не годится?» – «Да нет, не очень. А почему тебе нужен именно корсет?» – «К нему есть клевая рифма».
Бродский прекрасно осознавал природу наших отношений и, несмотря на кочки, рытвины и взаимные обиды, по-своему их ценил. Во всяком случае, после какого-нибудь яркого события, встречи или разговора он часто полушутя-полусерьезно повторял: «Запоминай, Людесса… И не пренебрегай деталями… Я назначаю тебя нашим Пименом».
Впрочем, для настоящего «пименства» время еще не пришло. Как писал Алексей Константинович Толстой,
Ходить бывает склизко по камешкам иным,
О том, что очень близко, мы лучше умолчим.
…Эта книжка – воспоминания о нашей общей молодости, о Бродском и его друзьях, с которыми мы были связаны долгие годы. Поэтому в тексте будут постоянно фигурировать нескромные местоимения «я» и «мы». Это неизбежно. Иначе, откуда бы мне было известно все то, о чем здесь написано?
Среди любителей русской словесности интерес к Бродскому острый и неослабевающий. И не только к его творчеству, но и к его личности, к его поступкам, характеру, стилю поведения. Поэтому мне, знавшей его много лет, захотелось описать его характер, поступки, стиль поведения.
Эта книжка не является документальной биографией Бродского и не претендует ни на хронологическую точность, ни на полноту материала. Кроме того, поскольку я – не литературовед, в ней нет и намека на научное исследование его творчества. В этой книжке есть правдивые, мозаично разбросанные, серьезные и не очень рассказы, истории, байки, виньетки и миниатюры, связанные друг с другом именем Иосифа Бродского и окружавших его людей.
Существует симпатичное американское выражение «person next door», что можно вольно перевести как «один из нас». В этих воспоминаниях я хочу рассказать об Иосифе Бродском, которого, в силу обстоятельств нашей жизни, я знала и воспринимала как одного из нас.
Глава I
НЕМНОГО ОБ АВТОРЕ
Чтобы объяснить, как и почему я оказалась в орбите Иосифа Бродского, мне следует коротко рассказать о себе и своей семье.
Биографии писателей, художников, композиторов и актеров часто начинаются шаблонной фразой: «Родители маленького Саши (Пети, Гриши, Миши) были передовыми, образованнейшими людьми своего времени. С детства маленького Сашу (Петю, Гришу, Мишу) окружала атмосфера любви и преданности искусству. В доме часто устраивались литературные вечера, концерты, ставились домашние спектакли, велись увлекательные философские споры…»
Все это могло быть сказано о моей семье, родись я лет на сто или пятьдесят раньше. Но я родилась в эпоху, когда те, кто мог сидеть в уютной гостиной, сидели в лагерях, а другие, кто был еще на свободе, не музицировали и не вели увлекательных философских споров. Писатели, художники, композиторы боялись раскланиваться на улице.
Когда в 1956 году мой отец праздновал день своего рождения, за столом собрались двадцать человек, и среди них не было ни одного, избежавшего ада сталинских репрессий.
Мне невероятно повезло с родителями. Оба – петербургские интеллектуалы с яркой и необычной судьбой. Оба были весьма хороши собой, блестяще образованны и остроумны. Оба были общительны, гостеприимны, щедры и равнодушны к материальным благам. Меня не унижали, никто не ущемлял моих прав и мне очень мало что запрещали. Я росла и взрослела в атмосфере доверия и любви.
Отец по характеру и образу жизни был типичным ученым, логичным и академичным. Он обладал совершенно феноменальной памятью – на имена, на стихи, лица, числа и номера телефонов. Был щепетилен, пунктуален, справедлив и ценил размеренный образ жизни.
Мама, напротив, являла собой классическую представительницу богемного мира – артистичную, капризную, непредсказуемую и спонтанную.
Хотя по характеру своему и темпераменту они казались несовместимыми, но прожили вместе сорок лет в любви и относительном согласии.
Мой отец, Яков Иванович Давидович, закончил в Петербурге Шестую гимназию цесаревича Алексея. (В советское время она стала 314-й школой.) Его одноклассником и приятелем был князь Дмитрий Шаховской, будущий архиепископ Иоанн Сан-Францисский. Их сблизила любовь к поэзии и политике. Во время Гражданской войны оба служили в Белой армии. Отец был ранен и попал в Харьковский госпиталь, а князь Шаховской оказался в Крыму и оттуда эмигрировал во Францию.
Отец стал юристом, профессором Ленинградского университета, одним из лучших в стране специалистов по трудовому праву и истории государства и права. (Кстати, среди его учеников был и Собчак.) На его долю пришелся весь «джентльменский набор» эпохи. В начале войны отца не взяли на фронт из-за врожденного порока сердца и сильной близорукости. Ему было поручено спасать и прятать книги из спецхрана Публичной библиотеки. Там он был арестован по доносу своих сотрудников за фразу «Надо было вооружаться, вместо того чтобы целоваться с Риббентропом».
Первую блокадную зиму отец провел в следственной тюрьме Большого Дома. Следователь на допросах, для большей убедительности, бил отца по голове томом Марксова «Капитала».
Отец остался жив абсолютно случайно. Его «дело» попало к генеральному прокурору Ленинградского военного округа – бывшему папиному студенту, окончившему юридический факультет за три года до войны. Одной его закорючки оказалось достаточно, чтобы «дело» было прекращено, и полуживого дистрофика вывезли по льду Ладожского озера в город Молотов (Пермь). Мы были эвакуированы туда с детским интернатом Ленинградского отделения Союза писателей. В этом интернате мама работала то уборщицей, то воспитательницей, то медсестрой.
В 1947-м, сразу после защиты докторской диссертации, отца объявили космополитом и выгнали из университета. У него случился обширный инфаркт, что в сочетании с врожденным пороком сердца на двенадцать лет сделало его инвалидом. Вернулся он к преподаванию в 1959 году, а пять лет спустя, в 1964-м, умер от второго инфаркта.
Папиной страстью была русская история. Он досконально знал историю царской семьи и был непревзойденным знатоком русского военного костюма. Ираклий Андроников в книжке «Загадка Н. Ф. И.» рассказал, как отец по военному костюму молодого офицера на очень «невнятном» портрете сумел «разгадать» Лермонтова.
В последние годы жизни отец консультировал многие исторические и военные фильмы, в том числе «Войну и мир». После его смерти мы подарили его коллекцию оловянных солдатиков, фотографии старых русских орденов и медалей, а также рисунки, эскизы и акварели костюмов киностудии «Мосфильм».
До 1956 года мы жили на улице Достоевского, 32, в квартире 6, а над нами, в квартире 8, жила адвокат Зоя Николаевна Топорова с сестрой Татьяной Николаевной и сыном Витей. Мы были не только соседями, но и друзьями. Не знаю, была ли Зоя Николаевна в прошлом папиной студенткой (возможно, они познакомились позже), но за чаем они часто обсуждали различные юридические казусы.
В своей книге «Записки скандалиста» Виктор Леонидович Топоров пишет, что пригласить его маму, Зою Николаевну Топорову, в качестве адвоката Иосифа Бродского посоветовала Ахматова.
Вполне возможно, что и Анна Андреевна тоже. Но я помню, как отец Бродского, Александр Иванович, на следующий день после ареста Иосифа приехал к моему отцу просить, чтобы он порекомендовал адвоката. Отец прекрасно знал весь юридический мир и назвал двух лучших, с его точки зрения, ленинградских адвокатов: Якова Семеновича Киселева и Зою Николаевну Топорову. После разговора втроем и папа, и Александр Иванович, и сам Киселев решили, что Якову Семеновичу лучше устраниться. Он, хоть и носил невинную фамилию Киселев, но обладал уж очень этнически узнаваемой наружностью. На суде это могло вызвать дополнительную ярость господствующего класса. Зоя Николаевна Топорова – хотя тоже еврейка – но Николаевна, а не Семеновна. И внешность не столь вызывающая, еврейство «не демонстрирующая». Такая наружность вполне могла принадлежать и «своему».
Зоя Николаевна была человеком блестящего ума, высочайшего профессионализма и редкой отваги. Но все мы, включая и папу, и Киселева, и Зою Николаевну, понимали, что, будь на ее месте сам Плевако или Кони, выиграть этот процесс в стране полного беззакония невозможно.
В 1956 году мы покинули коммуналку на улице Достоевского (до революции эта квартира принадлежала маминым родителям) и переехали на Мойку, 82. Этот огромный, в прошлом доходный дом выходил сразу на три улицы: на переулок Пирогова, на Фонарный переулок, знаменитый Фонарными банями со скульптурой медведя на лестнице, и на Мойку. В этом же доме жил Алик Городницкий, с которым мы вместе учились в Горном институте. К Городницким вход был с Мойки, а наш подъезд – с переулка Пирогова (бывшего Максимилиановского).
Невзрачный переулок Пирогова оканчивался тупиком – кажется, единственным в Ленинграде. И в тупике этом была потайная дверь бурого цвета, почти неотличимая от такой же бурой стены. Настолько незаметная дверь, что многие живущие в переулке граждане даже не подозревали о ее существовании.
А между тем через эту дверь можно было проникнуть в закрытый, невидимый с улицы и как бы изолированный от городской жизни сад Юсуповского дворца.
Однажды папа повел нас – Бродского, меня и наших общих приятелей Гену Шмакова и Сережу Шульца – в этот сад и с мельчайшими подробностями рассказал о роковом вечере убийства Распутина. Он знал, из какой двери выбежал Феликс Юсупов, где стоял член Государственной Думы Владимир Митрoфанович Пуришкевич и что делала в этот момент жена Юсупова, красавица Ирина…
С тех пор Бродский часто проникал через потайную дверь в тупике в Юсуповский сад.
«Когда я там, ни одна живая душа не знает, где я. Как в другом измерении. Довольно клевое ощущение», – говорил он.
Тупик нашего переулка даже упомянут в оде, написанной Иосифом моей маме в день ее девяностопятилетия. Вот из нее отрывок:
При мысли о вас вспоминаются
Юсуповский, Мойки вода,
со свертком подобье гнезда.Как знать, благодарная нация
когда-нибудь с кистью в руке
теней наших в том тупике.
Папа коллекционировал оловянных солдатиков. Раза два в месяц к нам из военной секции Дома ученых приходили его друзья, «задвинутые» на военной истории России. Они, кроме папы, были уже пенсионерами, а в прошлом имели высокие военные звания. Помню хорошо двоих: Романа Шарлевича Сотта и Илью Лукича Гренкова. Роман Шарлевич, среднего роста, с бледным, нервным лицом, отличался повышенной худобой. У него были огромные выпуклые глаза, что придавало ему сходство с раком. Когда Сотт смеялся, они буквально выскакивали из орбит. Под тонким хрящеватым носом красовались невиданной красоты холеные усы. Время от времени Роман Шарлевич расчесывал их серебряной щеточкой. Мама восхищалась его галантностью, безупречными манерами и говорила, что он – «типичный виконт». А наша няня Нуля придерживалась другого мнения: «Шарлевич, как кузнечик, исхудавши весь».
Илья Лукич, напротив, был пышный, мягкий и уютный. Его гладкие розовые щеки напоминали лангеты и, когда он смеялся, надвигались на глаза и напрочь их закрывали.
Оба приходили со своими оловянными драгунами, уланами и кирасирами. Крышка рояля опускалась, и на черной полированной поверхности «Беккера» устраивалось какое-нибудь знаменитое сражение. Собиралось довольно много народа, и наши «полководцы» рассказывали, как располагались полки, кто кого прикрывал, с какого фланга начиналась наступление.
«Сегодня у нас состоится Бородинское сражение, – вдохновенно говорил папа, – рояль – Бородинское поле. Мы находимся в трехстах метрах от флешей Багратиона. С другой стороны, метрах в семистах, – Бородино. Мы начинаем с атаки французов. Справа двигаются две дивизии Дессе и Компана, а слева полки вице-короля».
«Минуточку, – перебивал Илья Лукич, – пока они никуда не двигаются. Разве вы забыли, Яков Иванович, что они начали атаку, получив в подкрепление дивизию Клапарена, и ни минутой раньше?»
В этот момент, Роман Шарлевич внезапно терял свои виконтские манеры и, впадая в ХIХ век, перебивал полковника: «Нет-с, простите-с, не так было дело… Не знаете – не суйтесь, милейший. Наполеон отменил дивизию Клапарена и послал дивизию Фриана, что было с его стороны роковой ошибкой. А когда пошел в атаку наш драгунский полк…» – «Он не пошел, не пошел! – топал ногой Илья Лукич. – Яков Иванович, подтвердите, что драгунам был приказ не наступать, пока…» Ну и так далее.
Бродский очень любил эти военные вечера. Он облокачивался на крышку рояля и внимательно следил «за передвижением войск». Я помню, с каким завороженным лицом Иосиф слушал объяснения «военоначальников» об ошибках и Наполеона, и Кутузова во время Бородинского сражения, и не раз высказывал свое мнение, как следовало бы им поступить.
Кроме Бродского на военные вечера приходили Илюша Авербах, Миша Петров и часто спускался с третьего этажа наш сосед и общий с Бродским приятель Сережа Шульц, геолог, знаток и любитель искусств. Наивный, деликатный, всем желающий добра, Сережа и внешне, и внутренне очень напоминал Маленького принца из сказки Сент-Экзюпери. После женитьбы он иногда спускался к нам со слезами на глазах – пожаловаться на молодую жену за то, что хочет ходить по театрам и кино, вместо того чтобы учить с ним по вечерам французский язык.
Однажды его мама Ольга Иосифовна, тоже геолог, ворвалась к нам с белым лицом и сказала, чтобы мы немедленно «все это» уничтожили – наверху у Сережи идет обыск. В то время в квартире еще были печи. Мы затопили печь и начали «все это» бросать в огонь. Сережа был книжным фанатиком, он снабжал нас самиздатом и абсолютно недоступными западными изданиями Оруэлла, Замятина, Даниэля и многих других «прокаженных». Он открыл для меня Набокова.
Тридцать пять лет спустя, на конференции, посвященной 55-летию Бродского, в Петербурге, Сережа Шульц передал мне для Иосифа подарок – свою книгу «Храмы Санкт-Петербурга» с таким автографом: «Дорогому, милому Иосифу (ибо сегодняшнего Жозефа Бродского представляю себе туманнее, чем Осика нашей юности), далеко-далеко улетевшему из Санкт-Петербурга – на память о нем и обо мне, в надежде на встречу где-нибудь, когда-нибудь».
Этой встрече не суждено было состояться.
Как-то мы с отцом собрались в Русский музей и пригласили Бродского и Шульца к нам присоединиться.
Проходя мимо репинского «Заседания Государственного совета», Иосиф спросил, кто кого знает из сановников. Сережа знал шестерых, я – двоих. «Многих», – сказал отец. Мы уселись на скамейку перед картиной, и папа рассказал о каждом персонаже на этом полотне, включая происхождение, семейное положение, заслуги перед отечеством, романы, козни и интриги. Мы провели в «Государственном совете» два часа и пошли домой. На дальнейшее любование живописью не было сил.
Очень тепло, даже с нежностью, Бродский относился к моей матери, Надежде Филипповне Фридланд-Крамовой. Мама родом из еврейской «капиталистической» семьи. Ее дед владел заводом скобяных изделий в Литве. Однажды мой отец случайно наткнулся в Публичной библиотеке на устав этого завода, из которого следовало, что еще в 1881 году там был восьмичасовой рабочий день и оплачиваемый отпуск для рабочих. Будучи специалистом по трудовому праву, отец заочно маминого деда «одобрил».
Мамин отец Филипп Романович Фридланд был известным в Петербурге инженером-теплотехником. Как-то, отдыхая в Базеле (а возможно, на каком-то другом швейцарском курорте), он оказался в одном пансионате с Лениным. Они подружились на почве русских романсов – Ленин пел, Филипп Романович аккомпанировал. По вечерам, выпив пива, они совершали долгие прогулки, и Ленин развивал перед дедом идеи о теории и практике революции. Расставаясь, они обменялись адресами. Уж не знаю, какой адрес дал деду Владимир Ильич (возможно, что шалаша), но Филипп Романович и вправду получил от будущего вождя два или три письмеца.
Полагаю, что ленинские идеи произвели на деда сильное впечатление, потому что в 1918 году, схватив жену, пятилетнего сына и восемнадцатилетнюю дочь (мою будущую маму), дед ринулся в эмиграцию. На полдороге революционно настроенная мама сбежала от родителей и вернулась в Петроград. Следующая ее встреча с остатками семьи состоялась через пятьдесят лет.
В 1917 году мама закончила Стоюнинскую гимназию, в которой учились многие выдающиеся дамы, в том числе Нина Николаевна Берберова и младшая сестра Набокова Елена Владимировна.
Мамина жизнь вообще и карьера в частности были невероятно разнообразными. Она играла в театре «Балаганчик» с Риной Зеленой. Оформителем спектаклей был Николай Павлович Акимов, режиссером – Семен Алексеевич Тимошенко. После закрытия театра мама снималась в кино – например, в главных ролях в таких известных в свое время фильмах, как «Наполеон-Газ», «Гранд-отель» и «Минарет смерти». Хороша она была необыкновенно, этакая роковая femme fatalе, прозванная «советской Глорией Свенсон».
В юности мама посещала поэтические семинары Гумилева. Как-то на одном из занятий она спросила: «Николай Степанович, а можно научиться писать стихи, как Ахматова?»
«Как Ахматова вряд ли, – ответил Гумилев, – но вообще научиться писать стихи очень просто. Надо придумать две приличные рифмы, и пространство между ними заполнить по возможности не очень глупым содержанием».
Мама была знакома с Мандельштамом, Ахматовой и Горьким, играла в карты с Маяковским, дружила со Шкловским, Романом Якобсоном, Борисом Михайловичем Эйхенбаумом, Зощенко, Каплером, Ольгой Берггольц и другими, теперь уже ставшими легендарными людьми. О встречах с ними и о своей юности мама, в возрасте девяноста лет, написала книгу воспоминаний «Пока нас помнят».
Оставив сцену, мама занялась переводами и литературной работой. Она перевела с немецкого пять книг по истории и теории кино, написала несколько пьес, шедших на сценах многих городов Союза, а во время папиной болезни, когда его «инвалидной» пенсии едва хватало на еду, навострилась писать сценарии для «Научпопа» на самые невероятные темы – от разведения пчел до научного кормления свиней.
Приехав в Бостон в возрасте семидесяти пяти лет, мама организовала театральную труппу, назвав ее со свойственной ей самоиронией ЭМА – Эмигрантский Малохудожественный Ансамбль. Она сочиняла для ЭМЫ скетчи и тексты песен и сама играла в придуманных ею сценках. Она написала более сорока рассказов, которые были опубликованы в русскоязычных газетах и журналах в Америке, Франции и Израиле, а в девяносто девять лет издала поэтический сборник с «вычурным» названием «СТИХИ».
Благодаря родителям моя юность прошла в обществе замечательных людей. В нашем доме бывали директор Эрмитажа Иосиф Абгарович Орбели с женой Антониной Николаевной (Тотей) Изергиной, одной из самых остроумных женщин того времени; Лев Львович Раков, который основал Музей обороны Ленинграда, а отсидев за это, стал директором Публичной библиотеки; художник Натан Альтман, автор известного портрета Анны Ахматовой, с Ириной Валентиновной Щеголевой. Бывали молодой еще физик Виталий Лазаревич Гинзбург и режиссер Николай Павлович Акимов. Кстати, именно Акимов познакомил моих родителей, так что я косвенно обязана ему своим существованием. Бывали органист Исай Александрович Браудо с Лидией Николаевной Щуко, писатель Михаил Эммануилович Козаков с Зоей Александровной (с их сыном Мишей Козаковым мы дружим с детского сада).
Часто бывал у нас и Борис Михайлович Эйхенбаум с дочерью Ольгой. С Эйхенбаумом связана такая забавная история. В девятом классе нам было задано домашнее сочинение «по Толстому». Я выбрала «Образ Анны Карениной». В тот вечер к нам пришли гости, и в том числе Борис Михайлович. Я извинилась, что не могу ужинать со всеми, потому что мне надо срочно «накатать» сочинение. «О чем будешь катать?» – спросил Эйхенбаум. Услышав, что об Анне Карениной, Борис Михайлович загорелся: «Ты не возражаешь, если я за тебя напишу? Хочется знать, гожусь ли я для девятого класса советской школы».
На следующий день я пришла к Эйхенбауму в «писательскую надстройку» на канале Грибоедова за своим сочинением. Оно было напечатано на машинке, и мне пришлось его переписывать от руки в тетрадь. До сих пор проклинаю себя за то, что не сохранила этот, теперь уже исторический, текст.
За сочинение об Анне Карениной Эйхенбаум получил тройку. Наша учительница литературы Софья Ильинична с поджатыми губами спросила: «Где ты всего этого нахваталась?»
Борис Михайлович был искренне огорчен. И трояком, и насмешками, и хихиканьем друзей…
С годами ряды «старой гвардии» начали редеть. Дом наполнялся моими друзьями, и родители их приняли и полюбили. В 1964 году умер мой отец, но мама оставалась душой нашей компании вплоть до 1975 года, до отъезда в эмиграцию.
В декабре 1994 года мы праздновали в Бостоне мамино девяностопятилетие, на которое был приглашен и Бродский. К сожалению, он плохо себя чувствовал и приехать не смог. Вместо себя он прислал маме в подарок поздравительную оду.
ОДА
Надежде Филипповне Крамовой на день ее девяностопятилетия 15 декабря 1994 года
Надежда Филипповна, милая!
Достичь девяносто пяти
упрямство потребны и сила – и
позвольте стишок поднести.Ваш возраст – я лезу к вам с дебрями
идей, но с простым языком -
есть возраст шедевра. С шедеврами
я лично отчасти знаком.Шедевры в музеях находятся.
На них, разеваючи пасть,
ценитель и гангстер охотятся.
Но мы не дадим вас украсть.Для Вас мы – зеленые овощи,
и наш незначителен стаж.
Но Вы для нас – наше сокровище,
и мы – Ваш живой Эрмитаж.При мысли о Вас достижения
Веласкеса чудятся мне,
Учелло картина «Сражение»
и «Завтрак на травке» Мане.При мысли о вас вспоминаются
Юсуповский, Мойки вода,
Дом Связи с антеннами – аиста
со свертком подобье гнезда.Как редкую араукарию,
Людмилу от мира храня,
и изредка пьяная ария
в подъезде звучала моя.Орава кудряво-чернявая
клубилась там сутками сплошь,
талантом сверкая и чавкая,
как стайка блестящих галош.Как вспомню я вашу гостиную,
любому тогда трепачу
доступную, тотчас застыну я,
вздохну и слезу проглочу.Там были питье и питание,
там Пасик мой взор волновал,
там разным мужьям испытания
на чары их баб я сдавал.Теперь там – чужие владения
под новым замком, взаперти,
мы там для жильца – привидения,
библейская сцена почти.В прихожей кого-нибудь тиская
на фоне гвардейских знамен,
мы там – как Капелла сикстинская -
подернуты дымкой времен.Ах, в принципе, где бы мы ни были,
ворча и дыша тяжело,
мы, в сущности, слепки той мебели,
и вы – наш Микельанджело.Как знать, благодарная нация
когда-нибудь с кистью в руке
коснется, сказав «реставрация»,
теней наших в том тупике.Надежда Филипповна! В Бостоне
большие достоинства есть.
Везде – полосатые простыни
со звездами – в Витькину честь.Повсюду – то гости из прерии,
то Африки вспыльчивый князь,
то просто отбросы Империи,
ударившей мордочкой в грязь.И Вы, как бурбонская лилия
в оправе из хрусталя,
прищурясь на наши усилия,
глядите слегка издаля.Ах, все мы здесь чуточку парии
и аристократы чуть-чуть.
Но славно в чужом полушарии
за Ваше здоровье хлебнуть!
Мама так растрогалась, что ответила Иосифу стихами. Ее отвага показалась нам безумством: это все равно как Моцарту послать сонату своего сочинения. Вот что написала моя девяностопятилетняя мама.
Новые мемуары о Бродском написала Эллендея Проффер Тисли, американский литературовед-славист, которая вместе со своим мужем Карлом Проффером основала издательство «Ардис». В 1970–1980-е годы «Ардис» считалось главным издательством русскоязычной литературы, которая не могла быть опубликована в СССР. Это небольшая, но очень информативная книжка: Бродский был настолько близким другом семьи Проффер (они познакомились еще в Ленинграде до его эмиграции), что Эллендея с редким спокойствием рассказывает о его высокомерии, нетерпимости ко многим явлениям и непорядочности с женщинами - так, как рассказывают о недостатках близких родственников. При этом она не скрывает, что обожает Бродского и как поэта, и как человека. Своей книгой Проффер борется с мифологизацией его образа, которая за неполные 20 лет с момента его смерти только нарастает: «Иосиф Бродский был самым лучшим из людей и самым худшим. Он не был образцом справедливости и терпимости. Он мог быть таким милым, что через день начинаешь без него скучать; мог быть таким высокомерным и противным, что хотелось, чтобы под ним разверзлась клоака и унесла его. Он был личностью».
12 воспоминаний о Бродском от его американских издателей
Надежда Мандельштам
Впервые молодые слависты Карл и Эллендея Проффер узнали о новом ленинградском поэте Иосифе Бродском от Надежды Мандельштам. Писательница и вдова великого поэта приняла их в 1969 году в своей московской квартире на Большой Черемушкинской и настоятельно посоветовала познакомиться в Ленинграде с Иосифом. В планы американцев это не входило, но из уважения к Мандельштам они согласились.
Знакомство в доме Мурузи
Через несколько дней издателей по рекомендации Надежды Яковлевны принял 29-летний Бродский, уже переживший ссылку за тунеядство. Это произошло в доме Мурузи на Литейном - когда-то там жили Гиппиус и Мережковский, а сейчас ленинградский адрес Бродского стал его музеем-квартирой. Бродский показался гостям интересной, но сложной и чересчур самовлюбленной личностью; первое впечатление обеих сторон не пошло дальше сдержанного интереса. «Иосиф разговаривает так, как будто ты или культурный человек, или темный крестьянин. Канон западной классики не подлежит сомнению, и только знание его отделяет тебя от невежественной массы. Иосиф твердо убежден в том, что есть хороший вкус и есть дурной вкус, притом что четко определить эти категории не может».
Напутствие Ахматовой
Тот факт, что в молодости Бродский входил в круг так называемых «ахматовских сирот», помог ему позже в эмиграции. Ахматова еще в начале 60-х рассказала о Бродском в Оксфорде, куда приехала за степенью доктора, его имя запомнили, и эмигрировал Бродский уже не безвестным советским интеллигентом, а любимцем Ахматовой. Сам он, по воспоминаниям Проффер, вспоминал об Ахматовой часто, но «говорил о ней так, как будто вполне осознал ее значение только после ее смерти».
Письмо Брежневу
В 1970 году Бродский написал и был готов отправить Брежневу письмо с ходатайством об отмене смертного приговора для участников «самолетного дела», в котором он сравнивал советский режим с царским и нацистским и писал, что народ «достаточно натерпелся». Друзья отговорили его это делать. «До сих пор помню, как при чтении этого письма я похолодела от ужаса: Иосиф в самом деле собирался его послать - и был бы арестован. Я еще подумала, что у Иосифа искаженное представление о том, сколько значат для людей на самом верху поэты». После этого случая Профферам стало окончательно ясно, что Бродского надо увозить из СССР.
Новый, 1971 год Профферы с детьми встречали в Ленинграде. В тот приезд они в первый и в последний раз встретились с Мариной Басмановой - музой поэта и матерью его сына, с которой к тому времени Бродский уже мучительно порвал. Впоследствии, по убеждению Эллендеи, все свои любовные стихи Бродский все равно будет посвящать Марине - даже несмотря на десятки романов. «Это была высокая, привлекательная брюнетка, молчаливая, но она очень хорошела, когда смеялась, - а смеялась потому, что, когда подошла, Иосиф учил меня правильно произносить слово «сволочь».
Стремительная эмиграция
Бродский ненавидел все советское и мечтал уехать из СССР. Основным способом он видел фиктивный брак с иностранкой, но организовать его было не так просто. Неожиданно, во время подготовки страны к визиту Никсона в 1972 году, в квартире Бродского раздался звонок из ОВИРа - поэта приглашали на разговор. Результат был ошеломительным: Бродскому предлагали уехать сейчас же, в течение 10 дней, иначе для него наступит «горячее время». Местом назначения был Израиль, но Бродский хотел только в США, которые он воспринимал как «антисоветский союз». Американские друзья начали ломать голову, как устроить его в своей стране.
Через несколько дней самолет с Бродским на борту приземлился в Вене, откуда он должен был отправиться в Израиль. В Россию он больше не вернется никогда. Бродский не сразу осознал, что с ним произошло. «Я сел с ним в такси; в пути он нервно повторял одну и ту же фразу: «Странно, никаких чувств, ничего…» - немножко как сумасшедший у Гоголя. Изобилие вывесок, говорил он, заставляет крутить головой; его удивляло изобилие марок машин», - вспоминал Карл Проффер, как встречал Бродского в венском аэропорту.
Бродский не понимал, каких усилий стоило его друзьям, которые называют иммиграционную службу США «самой отвратительной организацией из всех», добиться для него, не имеющего даже визы, возможности приехать и начать работать в Америке. Это удалось сделать только с активным участием прессы. Бродский прилетел в Новый Свет и остановился в доме Профферов в Энн-Арборе - городе, где он проживет много лет. «Я спустилась вниз и увидела растерянного поэта. Сжимая голову ладонями, он сказал: «Все это сюрреально».
Стопроцентный западник
Бродский был непримиримым врагом коммунизма и стопроцентным сторонником всего западного. Его убеждения часто становились причиной споров с умеренно левыми Профферами и другими университетскими интеллигентами, которые, к примеру, протестовали против вьетнамской войны. Позиция Бродского скорее напоминала позицию крайнего республиканца. Но больше политики он интересовался культурой, которая для Бродского концентрировалась практически исключительно в Европе. «Что касается Азии, за исключением нескольких многовековой давности литературных фигур, она представлялась ему однообразной массой фатализма. Всякий раз, говоря о количестве народа, истребленного при Сталине, он полагал, что советский народ занял первое место на олимпиаде страданий; Китая не существовало. Западнику азиатская ментальность была враждебна».
Враждебность и надменность
Бродский открыто враждебно относился к сверхпопулярным в СССР поэтам-западникам - Евтушенко, Вознесенскому, Ахмадулиной и другим, что при этом не мешало ему обращаться к почти всемогущему Евтушенко за помощью, если надо было посодействовать кому-то из знакомых в эмиграции из СССР. Пренебрежительное отношение Бродский выказывал и ко многим другим литераторам, даже не отдавая себе в этом отчета: например, однажды он оставил разгромный отзыв на новый роман Аксенова, который считал его своим другом. Роман смог выйти только через несколько лет, а Аксенов позвонил Бродскому и «сказал ему что-то в таком роде: сиди на своем троне, украшай свои стихи отсылками к античности, но нас оставь в покое. Ты не обязан нас любить, но не вреди нам, не притворяйся нашим другом».
Нобелевская премия
Проффер вспоминает, что Бродский всегда был очень самоуверенным и, еще живя в Ленинграде, говорил, что получит Нобелевскую премию. Однако эту самоуверенность она считает органической чертой его таланта, то есть положительной чертой - без нее Бродский мог бы не стать Бродским. После полутора десятков лет жизни за границей, всемирного признания и смерти родителей, оставшихся за железным занавесом, Бродский получил премию и танцевал со шведской королевой. «Более счастливого Иосифа я никогда не видела. Он был очень оживлен, смущен, но, как всегда, на высоте положения… Оживленный, приветливый, выражением лица и улыбкой он будто спрашивал: вы можете в это поверить?»
Женитьба
«Голос у него был растерянный, когда он мне сообщил об этом. Не могу поверить, сам не знаю, что я сделал, сказал он. Я спросила его, что случилось. «Я женился… Просто… Просто девушка такая красивая». Единственная жена Бродского, итальянская аристократка русского происхождения Мария Соццани, была его студенткой. Они поженились в 1990 году, когда Бродскому исполнилось 50, а СССР уже рушился. В 1993 году у них родилась дочь Анна.
В 90-е имевший слабое сердце Бродский перенес несколько операций и старел на глазах, однако так и не бросил курить. Про одну из последних встреч Проффер вспоминает: «Он пожаловался на здоровье, и я сказала: ты давно уже живешь второй век. Такой тон был у нас нормальным, но Марии было тяжело это слышать, и, посмотрев на ее лицо, я пожалела о своих словах». Через несколько недель, 28 января 1996 года, Бродский умер у себя в кабинете. В Россию, где к тому времени уже вышло его собрание сочинений, он так и не приехал, а похоронен был в Венеции на острове Сан-Микеле.
- Издательство Corpus, Москва, 2015, перевод В.Голышева
В 1964 году Иосиф Бродский был осужден за тунеядство, приговорен к пяти годам принудительного труда в отдаленной местности и сослан в Коношский район Архангельской области, где поселился в деревне Норинская. В интервью Соломону Волкову Бродский назвал это время самым счастливым в своей жизни. В ссылке Бродский изучал английскую поэзию, в том числе творчество Уистена Одена:
Я помню, как сидел в маленькой избе, глядя через квадратное, размером с иллюминатор, окно на мокрую, топкую дорогу с бродящими по ней курами, наполовину веря тому, что я только что прочёл... Я просто отказывался верить, что ещё в 1939 году английский поэт сказал: «Время... боготворит язык», а мир остался прежним.
«Поклониться тени»
8 апреля 1964 года, согласно «Приказу № 15 по совхозу „Даниловский“ Архангельского треста „Скотооткорм“» Бродский был зачислен в бригаду № 3 в качестве рабочего с 10 апреля 1964 года.
В деревне Бродскому привелось попробовать себя в качестве бондаря, кровельщика, возницы, а также трелевать брёвна, заготавливать жерди для изгородей, пасти телят, разгребать навоз, выкорчевывать камни с полей, лопатить зерно, заниматься сельскохозяйственными работами.
А. Буров — тракторист — и я,
сельскохозяйственный рабочий Бродский,
мы сеяли озимые — шесть га.
Я созерцал лесистые края
и небо с реактивною полоской,
и мой сапог касался рычага.
1964
Вот какие воспоминания о Бродском сохранились у жителей райцентра Коноша и деревни Норинской.
Таисия Пестерева, телятница: «Послал его бригадир жердья для огорожки секти. Топор ему навострил. А он секти-то не умеет — задыхается и все ладоши в волдырях. Дак бригадир... стал Иосифа на лёгкую работу ставить. Вот зерно лопатил на гумне со старухами, телят пас, дак в малинник усядется, и пока не наестся, не вылезет из малинника... Худой молвы о себе не оставил... Обходительный был, верно... Потом Иосиф на постой в другой дом перебрался. И перво-наперво посадил перед избой черемуху — из лесу принес. Говаривал: „Каждый человек должен за свою жизнь хоть одно дерево посадить, людям на радость“».
Мария Жданова, работник почты: «Стоит у меня на почте, опершись на стойку, смотрит в окно и говорит в таком духе, что о нём ещё заговорят. Я тогда ещё подумала грешным делом: кто же о тебе заговорит, о тунеядце? Запомнились те слова от сомнения — кому ты, больной и ни к чему не гожий, нужен и где о тебе говорить-то будут».
Александр Булов, тракторист: «Пока он с Норинской до работы дойдет три километра — опоздает, потом, если сеялку на поле заклинит, от Иосифа пользы никакой. И все время перекурить звал. Мерзнуть будет, лишь бы не вспотеть. Мешки поворочает, сеялку кое-как затарит зерном, а больше ни-ни... С ним с год я всего проработал, да и то старался, если можно было не брать его... Получал Иосиф в совхозе рублей пятнадцать в месяц — за что больше, если не работал... Жаль вообще мужика было. Придет на работу, с собой — три пряника, и вся еда. Брал Иосифа с собой домой, подкармливал. Не пили, нет... госбезопасность приезжала: мою хозяйку с самого начала предупредили, чтобы я с ним не снюхался... Иосиф мне стихи не читал, а я не вникал и не вникаю. По мне, чем сюда было высылать, лучше бы сразу за бугор. Там ему место: и душой закрытый, и стихи у него муть какая-то».
Дмитрий Марышев, секретарь парткома совхоза, впоследствии директор совхоза: «Мы с ним оказались в одной паре. Женщины затаривали выкопанные трактором клубни в мешки, а мы грузили мешки на тракторную тележку. Беремся вдвоем с Бродским за мешок и забрасываем на тележку. Говорите, был он сердечником? Не знал. При мне Бродский работал на совесть. В редких перерывах курил „Беломор“. Работали почти без отдыха. В обед я пошел к своему тезке, Пашкову, а Бродского увела к себе Анастасия Пестерева, у которой он жил на квартире в Норинской. После обеда опять кидали тяжелые мешки, и так весь день. Бродский был в осеннем пальто и полуботинках. Я спросил: „Что же не одел фуфайку и сапоги?“ Он промолчал. А что тут скажешь, он понимал ведь, что грязная работа предстоит. Видно просто молодая беспечность».
Анна Шипунова, судья Коношского райнарсуда: «Мне очень хорошо помнится, что высланный Бродский был осужден за отказ собирать камни с полей совхоза „Даниловский“ на 15 суток ареста. Когда Бродский отбывал наказание в камере Коношского РОВД, у него был юбилей (24 мая 1965 года Иосифу исполнилось 25 лет. — Прим. авт.). В его адрес поступило 75 поздравительных телеграмм. Мне стало известно об этом от работницы отделения связи, она была народным заседателем в нашем суде. Мы, конечно, удивлялись — что это за личность такая? Потом мне стало известно, что к нему на юбилей прибыло из Ленинграда много людей с цветами, подарками.
Коллектив поздравляющих направился ко второму секретарю райкома Нефедову — с тем, чтобы он повлиял на суд. Нефедов мне позвонил: „Может, освободим его на время, пока люди из Ленинграда здесь? Мы, конечно, вопрос рассмотрели и освободили Бродского насовсем. В камере он больше не появлялся“».
Наталия Балакина
Исаак Бродский
Художник и коллекционер
Исаак Израилевич Бродский (1884–1939) - один из интереснейших художников прошлого столетия. Парадоксальна судьба творческого наследия этого мастера. В советскую эпоху его знали (и знали практически все со школьной скамьи) как главного советского художника, создавшего изобразительные каноны вождей пролетариата и коммунистической партии, прежде всего Ленина, едва ли не первым создавшего в изобразительном искусстве образы Революции, Социалистического труда, Индустриализации и т.п. Лидер советской академической школы живописи, видный общественный деятель, автор официозных картин, репродукции которых печатались в календарях, учебниках, пропагандистской литературе огромными тиражами, надолго заслонил другого Бродского - блестящего профессионала, получившего образование в Петербургской Академии художеств, любимого ученика Репина, автора проникновенных лирических пейзажей, отличающихся неповторимым «ажурным» стилем и тонкой музыкальностью, незаурядного мастера многочисленных портретов с утонченной и глубокой характеристикой, замечательного педагога, возродившего традиции академической системы обучения художников, талантливого организатора, по сути дела, первого президента ныне существующей Академии художеств.
И, наконец, - выдающегося коллекционера. Бродский создал собственный музей, в котором с потрясающим художественным вкусом собрал работы русских мастеров живописи и графики. Музей расположен в самом сердце Петербурга, на площади Искусств, рядом с Русским музеем, Филармонией и Михайловским театром. Мемориальная доска на фасаде гласит: «В этом доме с 1924 по 1939 год жил и умер известный советский художник Исаак Израилевич Бродский». (Это были последние 15 лет жизни художника.)
Бродский прошел великолепную школу. Первоначальное образование он получил в Одесском художественном училище, где его педагогами были Ладыженский и Костанди. С теплым чувством Бродский писал о Г.А.Ладыженском: «Я на всю жизнь запомнил свой первый урок по живописи и всегда с благодарностью вспоминаю своего учителя. До натюрмортного класса я никогда не занимался живописью. Я пришел в класс, сделал рисунок, но не знал, как держать кисть, как писать красками, не знал, как выдавливать на палитру краски и как их составлять. Я отчетливо помню, как подошел Ладыженский, молча взял мою палитру и кисти и стал смешивать краски, составляя тона. Он просидел за моим мольбертом два часа и написал небольшой кусок натюрморта. Эти два часа я считаю самыми важными в моей жизни: Ладыженский за эти два часа открыл мне глаза на понимание натуры и научил меня работать»1 .
Замечательный колорист, известный мастер К.К.Костанди привил своему ученику любовь к натуре и научил тренировать зрительную память и творческое воображение, научил «рисовать глазами». Бродский окончил училище на «отлично» и без экзаменов был принят в сентябре 1902 года на испытательный курс в Петербургскую Академию художеств. Молодой художник мечтал учиться у Репина, но его мастерская была переполнена. Однако Бродский добился разрешения поработать над учебной постановкой. Хотя ему досталось неудобное место, откуда натурщик был виден в очень сложном ракурсе, он все-таки справился с трудной задачей и после первого дня работы заслужил похвалу учителя. «От Репина я воспринял не его манеру письма, а его отношение к искусству, любовь и серьезный подход к искусству, как к делу жизни. Это дало мне значительно больше, чем простое подражание его технике», - вспоминал впоследствии художник2 . Действительно, работы Бродского не похожи на произведения Репина, но художников сближало истинное стремление к реалистической правде в искусстве, презрение к фальши, приблизительности, к формальным ухищрениям.
Во время учебы в Академии художеств Бродский каждое лето выезжал на практику в Тверскую губернию на Академическую дачу3 . Он ставил перед собой труднейшие пленэрные задачи и блестяще их решал. В 1907 году он написал множество этюдов: «Старые лодки», «Академическая дача», «Старая церковь. (В Тверской губернии)», «Серый день. (Пейзаж с лошадками)», за которые Общество поощрения художеств удостоило его высшей стипендии. Именно пейзажными работами он обратил на себя особое внимание. Пейзажные работы Бродского, выполненные на Академической даче, вызвали живые отклики художественной критики, которая отмечала виртуозный рисунок, колористическую тонкость, цветовое обобщение, выработку индивидуального стиля «ажур». Эти специфические приемы письма определили «рисуночный» характер его пейзажной живописи.
Еще учась в Академии художеств, Бродский больших успехов добился и в портретном жанре. Его «Автопортрет» 1904 года отличался причудливой игрой светотени, что явно свидетельствовало об увлеченности Рембрандтом. В дальнейшем живописная манера художника будет существенно меняться. Мазки станут плавно сливаться, энергичная плотная фактура станет более сглаженной.
Необычен портрет Людмилы Бурлюк, написанный в 1906 году в имении Козырщина Полтавской губернии, куда Бродский был приглашен поэтом-футуристом Д.Бурлюком, его соучеником по Одесскому художественному училищу. Острое композиционное решение, придуманное Бродским, свежий колорит, жанровый характер изображения делают этот женский портрет оригинальным и запоминающимся. Людмила Бурлюк вспоминала о создании этого портрета: «В теплый день я начинаю позировать Бродскому и другим художникам. Сижу на полу, на коврике, хотя кругом много кресел: почему-то Бродский нашел, что так лучше, и брат его поддержал. Смотрю на зеркала, в простенке между ними балконная дверь. В открытые настежь окна льется солнце. Синеют подснежники в саду и на столе, а распустившиеся листья яркой зеленью режут глаза»4 .
На формирование характера Бродского и его дальнейшую судьбу сильно повлияла революционная атмосфера 1905 года. Он активно участвовал в митингах, собраниях, направленных на осуждение самодержавия. События 9 января напрямую коснулись Бродского, чудом спасшегося в этот день. Художник вспоминал: «В памятный день, 9 января, утром я шел в Академию… в это время мы увидели отряд казаков, уже ожидавших демонстрантов и заградивших нам дорогу… вдруг раздалась команда: ”Шашки наголо!” Я стоял около ограды сада и обдумывал, смогу ли я в случае опасности перепрыгнуть через решетку. Мне казалось это очень трудным, но когда по прошествии нескольких секунд я увидел, что казаки рубят шашками направо и налево и на мостовой уже лежат первые жертвы, то мне оставалось только прыгнуть через решетку в сад. Я, как кошка, одним прыжком вскочил на ограду, но когда хотел прыгнуть вниз, то зацепился калошей за острые спицы и повис вниз головой. Я видел, как мимо меня мчались казаки, и понял, в какой нахожусь опасности, так как очень легко меня могли проткнуть шашкой. Однако я остался невредим, вероятно, потому, что казаки приняли меня за убитого. Вскоре подбежали товарищи и помогли мне выбраться из тяжелого положения»5 .
В 1906 году, когда в стране проходили многочисленные забастовки и митинги, Бродский, выполняя классное задание на свободную тему для конкурса эскизов, написал картину «Красные похороны». В картине изображен зимний пасмурный день, медленно движется траурная процессия: рабочие хоронят товарищей, убитых 9 января 1905 года на Дворцовой площади. Картина была представлена автором на конкурс эскизов, но из-за своего революционного содержания не была допущена Советом Академии художеств. Лишь Репин требовал утверждения эскиза и выдвигал его на премию. Бродский решил показать полотно на Весенней выставке в Академии художеств. Но цензура при просмотре выставки запретила картину, она была «арестована» полицией и пролежала в участке свернутая в рулон до 1917 года. В нескольких журналах эта работа Бродского была опубликована. Тема жертв 9 января волновала художника, и он возвратился к ней в 1918 году, когда участвовал в оформлении праздника первой годовщины Октябрьской революции, украсив одну из площадей Петрограда большим панно «Красные похороны».
Во время революции 1905–1907 годов Академия художеств чутко реагировала на все происходящее. Митинги, забастовки, отстаивание интересов студентов, организация Совета старост - во всех этих событиях активно участвовал Бродский. Он даже был избран представителем от самой многочисленной группы учащихся - от общих классов (90 человек). Во время реакции на революционные события ректор Академии художеств получил предписание составить список «неблагонадежных», одним из первых в этом списке значился Бродский. Лишь заступничество профессоров Академии художеств И.Е.Репина, А.И.Куинджи и В.А.Беклемишева за талантливого молодого художника помогло ему продолжить учебу.
Кризис в обществе в послереволюционный период, несомненно, повлиял на мировоззрение художника и его дальнейшее творчество. «Настроение у меня было мрачное, мною овладел какой-то безотчетный страх смерти»6 , - писал художник. Он создал эскиз конкурсной картины «Тишина», где изобразил самого себя в гробу. Эскиз был утвержден. Картину назвали сенсацией, обсуждался ее символико-философский смысл. Позднее, в 1908 году, автор показал ее на конкурсной выставке среди других своих работ, после чего картину похитили из мастерской художника, и ее дальнейшая судьба неизвестна.
Характерно при этом, что в своей дипломной работе Бродский отказался от столь мрачной темы и приступил к большому полотну «Теплый день», наполненному светлыми эмоциями от общения с природой, от созерцания беспечного мира детей. На академической конкурсной выставке дипломных работ картина обратила на себя внимание публики и критики. А.Н.Бенуа положительно отозвался о дипломной выставке в Академии художеств: «Благодаря двум художникам годичный экзамен Академии перед публикой оказался на этот раз интереснее обыкновенного. Можно так или иначе относиться к работам Савинова и Бродского, но несомненно, что оба талантливы, что они положили большие усилия в свои произведения, что они имеют понятие о художественных задачах… Искусство Бродского сдержанно до педантизма, его строгость доходит до сухости. Бродский не живописец, а рисовальщик, как говорят теперь, “график”. Его интересует сплетение линий, развитие планов, определенность контуров. И его большая картина “Теплый день” не что иное, как огромный рисунок почти орнаментального характера, у которого главный интерес заключен в хитросплетениях ветвей, в мозаике всюду рассеянных солнечных бликов, в разнообразии поз и групп. Но именно в этой определенности задач сказывается, что Бродский - настоящий художник. Он - маньяк. И я бы сказал, что маньячество есть подкладка всякого таланта. Маньячество учит увлекаться особенностями известных явлений, познавать их законы и прелесть. Лишь человек, определенно влюбленный в то или другое явление в природе, способен приложить те усилия, которые необходимы для передачи его»7 . А.А.Рылов в своих «Воспоминаниях» писал: «…на конкурсной выставке в Академии в 1908 году ряд прекрасных работ Бродского прямо-таки захватил меня своей зрелостью, мастерством опытного, совсем нового для меня художника. Ученик Репина, но репинского в живописи Бродского совсем ничего нет. Непонятно, откуда он приобрел это мастерство, кто его научил?»8 Особенно лестной похвалой для себя Бродский считал высокую оценку В.А.Серова: «Он одинаковый мастер во всех манерах и везде интересен. Предсказываю ему прекрасное будущее»9 .
Помимо большой картины Бродский представил на конкурс портрет своей жены Л.М.Гофман (1908), около тридцати пейзажей, портреты артистов П.Самойлова (1907) и Н.Шаповаленко (1907). Конкурсанту были присуждены большая золотая медаль, звание художника и право на заграничную командировку. Бродский посетил Германию, Францию, Испанию, Англию, Австрию и всюду изучал искусство старых мастеров и современных художников, много работал сам.
Больше месяца художник работал в Гранаде и писал по девять-десять часов под горячим солнцем, когда все прятались от жары. «Писать красками в такую жарищу было очень трудно. Краски становились жидкими и текли по холсту, но я был вознагражден результатами своей работы… мне удалось запечатлеть прекрасные мотивы испанской природы, мои пейзажи были отмечены критикой как наиболее интересные работы сезона, и местная печать стала именовать меня ”знаменитым русским художником”»10 , - вспоминал Бродский.На основе испанских впечатлений возникла большая картина «Бой быков в Мадриде» (1909). Бродский был увлечен этой темой, он не пропускал ни одного боя быков и отмечал: «Зрелище это необычайно яркое и праздничное. Это народный праздник, в котором много пережитков дикости, что сильно отталкивает всякого, еще мало знакомого с бытом и нравами страны. Но в то же время это зрелище подкупает своей горячностью, темпераментом и той удивительной страстностью, с которой испанцы воспринимают бой быков»11 . Позднее, в 1920-е годы, «Бой быков» экспонировался на одной из выставок «Общины художников», членом которой был Бродский. Когда выставка завершилась, и эта огромная картина оказалась похищенной. Через несколько лет автор выкупил это полотно для своей коллекции.
Совет Академии художеств, после того как живописец представил на выставке в Петербурге около ста произведений, выполненных в Испании, продлил ему заграничную командировку. Бродский провел следующие полгода в Италии, значительную часть времени в Риме, выезжал в Венецию, Неаполь, Флоренцию и другие города. Картина «Сказка» (1910), которую он написал, в 1911 году удостоилась юбилейной премии в 2000 рублей на Всероссийском конкурсе Общества поощрения художеств. Денежная премия за «Сказку» дала возможность Бродскому осуществить третью заграничную поездку уже самостоятельно. На Капри, где художник провел лето 1911 года, Горький снял Бродскому и его семье неподалеку от себя домик. Горький и Мария Федоровна Андреева были свидетелями того, как была написана большая картина «Италия», которая по своему характеру и стилю во многом созвучна «Сказке». Картины «Сказка» и «Италия» явились творческим отчетом итальянских впечатлений художника.
После учебы в Академии художеств Бродский становится известным пейзажистом и портретистом. В портретах прослеживается стремление подчеркнуть внутреннюю психологию образа, при том что Бродский прекрасно схватывает сходство с моделью. Он создал целый ряд женских портретов. «Портрет балерины Большого театра Н.С.Чернобаевой» (1916) - чрезвычайно характерен. Бродский создал эффектный салонный портрет московской красавицы балерины и актрисы: Чернобаева помимо того, что была артисткой балета Большого театра в Москве, участвовала в первом Русском сезоне С.Дягилева в Париже в 1909 году, в 1915 году снялась в фильме Е.Бауэра «Грезы», где сыграла роль артистки, главной балерины оперы Тины Виарской.
Портрет Репина (1912) Бродский написал в усадьбе «Пенаты», куда художник окончательно переехал в 1903 году. Об этой работе Репин восторженно отзывается в письме к С.М.Прохорову: «А с меня начал писать портрет И.И.Бродский, хорошо взял и интересно ведет: сходство полное. Я вижу себя и восторгаюсь техникой. Простота, изящество, гармония и, правда, правда выше всего, и как симпатично! Дай бог ему кончить, как начал. Да, он большой талант!»12 Бродский вспоминал, что после первого сеанса Репин восхищался, называя его «Ван Дейком». Но, спустя неделю, когда Бродский продолжил работу над портретом, он, боясь испортить начатое, работал неуверенно. А Репин, увидев перемены в работе, ужасно огорчился, стал ругать художника и сильно с ним рассорился. Вечером Бродский и Репин пошли в театр. Вдруг, во время спектакля, схватив Исаака за руку, Илья Ефимович повел его в свою мастерскую, где находился портрет, и не успокоился, пока Бродский не смыл скипидаром все неудачное, что сделал за день.
В эти годы художник создает много заказных портретов и портретов близких ему людей. Лучшие стороны Бродского-портретиста отражены в его автопортрете 1914 года. Перед зрителем - образ молодого, энергичного, уже уверенного в себе человека. Бродский подчеркивает в своем облике художника.
В послереволюционные годы художник вовлечен в небывалый идеологический заказ, и в его творчестве в 1920-е и 1930-е годы появились иные черты. Портреты становятся суше, сдержаннее по цвету, очень четко выявляется почти скульптурная пластика лица и всей фигуры, тщательная передача внешних черт придает некую документальность моделям. Таковы изображения представителей советского партийного руководства - Ленина, Сталина и других «вождей государства». Даже в монументальных композициях на историко-революционную тематику, которые Бродский создает в 1920-е годы, художник придавал своим персонажам индивидуальные черты, подчеркивал конкретность в образе современника, творящего историю. Масштабное полотно «Торжественное открытие II-го Конгресса Коминтерна во дворце Урицкого в Ленинграде»,над которым он работал с 1920 по 1924 год, является грандиозным групповым портретом. Бродский был командирован на Конгресс Коминтерна, который проходил в Петрограде с 19 июля по 7 августа 1920 года. Для фиксации всего происходящего комитет по организации Конгресса поручил ему создать рабочую группу, и художник привлек к работе Б.Кустодиева, М.Добужинского, Г.Верейского, С.Чехонина, К.Вещилова. Организованное в Петрограде издательство Коммунистического Интернационала уже в ноябре выпустило альбом «Деятели Коммунистического интернационала», представив не фотографии делегатов, а портретные рисунки, выполненные известными русскими художниками с натуры. Были представлены композиции, изображающие праздничные шествия и другие события тех дней. Не все портреты участников Конгресса были помещены в это издание, из-за лимита времени они не были нарисованы, многие представляют собой лишь беглые наброски. Но альбом стал уникальным документом с момента своего выхода - к этому времени некоторых делегатов уже не было в живых: Иван Рахья, делегат Финляндской рабочей партии, был убит, Джон Рид, делегат Американской рабочей партии, умер, а Раймонд Лефевр, представитель Парижского комитета III Интернационала, утонул на обратном пути во Францию. По прошествии времени документальная ценность альбома только возрастала: многие деятели Коминтерна были объявлены врагами народа и уничтожены во время сталинских репрессий.
Художественное мастерство графических портретов и композиций очевидно и неоспоримо. Беглые наброски и при этом меткие характеристики делегатов всего мира создают ощущение бурного ритма революционной жизни, исторической важности происходящего. Бродский вспоминал, с каким трудом и в каких сложных условиях приходилось работать: в поезде между Петроградом и Москвой, в гостинице ранним утром или поздним вечером, на заседаниях урывками, а иногда и скрытно, потому что многие делегаты были на Конгрессе инкогнито. Художник создал за короткий срок свыше 150 портретов (часть из них была создана уже на III Конгрессе Коминтерна). Наряду с рисунками-набросками присутствуют и детально проработанные и законченные портреты, где Бродский показал себя тонким психологом и виртуозным мастером.
События II Конгресса произвели на Бродского сильное впечатление. Он поставил перед собой задачу создать современную монументальную картину. «Мысль написать картину “II-ой Конгресс Коминтерна” появилась у меня сразу же после того, как мне посчастливилось побывать на открытии конгресса. Зрелище было грандиозное, торжественное и очень пышное. Мне казалось, что и в картине оно должно быть интересным»13 , - писал художник. В 1924 году живописное полотно «Торжественное открытие II Конгресса Коминтерна» было закончено. Это был настоящий творческий подвиг, сравнимый по масштабу художественных задач с репинским «Заседанием Государственного Совета». Недаром Репин, когда увидел присланную Бродским репродукцию этой работы, назвал художника Рафаэлем нашего времени. «“Торжественное открытие II Конгресса” - картина Исаака Бродского представляет такое необыкновенное явление, что о нем можно только благоговейно молчать. Такая масса лиц (600) и движений, и все портреты, и все они действуют, начиная с главного оратора Ленина. Это колоссальный труд, и выполнение такой сложной композиции - мы знаем их - редкость» - так отзывался о ней Илья Ефимович14 .
Много работ у Бродского связано с образом Ленина. На II Конгрессе Коминтерна и ряде других заседаний художник сумел выполнить портретные наброски вождя. Бродский вспоминал о реакции Ленина на его карандашный портрет: «Я подошел к Владимиру Ильичу, показал ему мой рисунок, сделанный на открытии конгресса, и попросил его подписать. Пристально всмотревшись в карандашный набросок, Владимир Ильич ответил мне, что он не похож на себя. Окружающие нас стали убеждать Владимира Ильича в том, что он похож, что он совершенно не знает своего лица в профиль и что портрет, без сомнения, удачен. Владимир Ильич усмехнулся и принялся подписывать рисунок. - Первый раз подписываюсь под тем, с чем не согласен! - сказал он с улыбкой, передавая мне обратно рисунок»15 . Бродский написал ряд портретов Ленина: «В.И.Ленин на фоне Кремля» (1923), «В.И.Ленин на фоне Смольного» (1925) и др. Более всего удалось художнику полотно «В.И.Ленин в Смольном» (1930), которое приобрело огромную популярность. «Я представил себе Владимира Ильича живым, мне захотелось сделать камерный портрет, изобразив его в маленькой комнатке Смольного, за работой. Картина писалась с увлечением, быстро - в две-три недели. Материал был мной хорошо изучен. Все необходимые детали я зарисовал в альбом. Сделанная мною на III конгрессе Коминтерна зарисовка Владимира Ильича, сидящего на приступке трибуны, что-то записывающего, явилась основой композиции»16 , - вспоминал художник. По данным Всесоюзной книжной палаты, картина «В.И.Ленин в Смольном» с 1934 по 1937 год репродуцировалась в различных видах изданий тиражом 5 000 220 экземпляров. Когда одно из издательств, по воспоминаниям сына Бродского, выпустило репродукцию картины миллионным тиражом, авторский гонорар (около 100 тысяч рублей) художник попросил перечислить от его имени в «Фонд Обороны страны». При этом составил подробный список: сколько на авиацию, сколько на танки, сколько на торпедные катера.
Наряду с историко-революционными картинами большое место в творчестве Бродского в 1930-е годы продолжал занимать пейзаж, где художник последовательно развивал лирическую тему. Большой цикл образуют пейзажи парков - «Аллея Летнего сада осенью» (1928), «Аллея парка» (1930), «Алупка» (1937) и другие работы отличаются мастерством, филигранной передачей ажурной листвы, ветвей деревьев, тончайших нюансов света и тени. Интересны у Бродского городские пейзажи, например, «Город ночью» (1929), где художник увлечен передачей ночного освещения, таинственным сопоставлением света и тени. В творчестве художника присутствовали и, как называл их сам Бродский, «брейгелевские мотивы» - зимние пейзажи с многоплановой композицией и стаффажными фигурками, напоминающие живопись Питера Брейгеля («Зима»; 1919–1922). Художник, создавая большие ландшафты с охватом широкого пространства, написанные по памяти и воображению и завораживающие своей фантастической красотой, выступает здесь скорее продолжателем традиций Шишкина, Левитана, Куинджи. Творчество художника в эти годы отличало зрелое мастерство и сочетание профессионализма академической школы с остротой социально-нравственного чувства, свойственного русскому критическому реализму, и эстетизма культуры Серебряного века.
Лучшие качества творческой личности Бродского в полной мере проявились в его деятельности на посту директора Всероссийской Академии художеств (1934–1939) и профессора живописи, из мастерской которого вышли такие известные художники, как А.И.Лактионов, Ю.Н.Непринцев, П.П.Белоусов, А.М.Грицай. Приняв руководство Академией, дезориентированной после формалистических экспериментов 1920-х годов, Бродский вместе с возвращенными к преподаванию художниками-реалистами - А.А.Рыловым, П.А.Шиллинговским и другими, приложил все силы к восстановлению традиционной системы художественного образования, на которой сам был воспитан и достоинства которой высоко ценил. В 1938 году состоялся первый выпуск студентов новой, возрожденной Академии, подготовка которого стоила Бродскому огромного напряжения сил, требовала постоянного внимания и забирала основную часть его времени.
Бродский умер 14 августа 1939 года. Бесценная коллекция картин и рисунков мастеров русской школы, собранная Бродским, осталась в квартире своего прежнего хозяина. Началась война, коллекция пережила в квартире блокаду, а после окончания войны стала основой экспозиции музея-квартиры, открывшегося в 1949 году.
Бродский собирал произведения русских художников на протяжении всей своей жизни. Более тысячи картин и рисунков украшали стены его квартиры и мастерской. Бродский увлекся коллекционированием еще в студенческие годы, тогда Репин подарил ученику три свои рисунка. Исаак Израилевич приобретал первоклассные работы художников - Репина, Серова, Врубеля, Левитана, Степанова, Архипова, Коровина, Сомова, Туржанского, Головина.
Бродский великолепно разбирался в технике и особенностях живописи русских художников. К нему, как к опытному эксперту, обращались за советом музейщики и коллекционеры. Бродский мог атрибутировать картину, если она не была подписана, определить подлинность полотна. В воспоминаниях сына Бродского Евгения Исааковича описывается следующий эпизод: «Будучи как-то в Москве, отец зашел в гости к своему старому другу, известному артисту Владимиру Яковлевичу Хенкину, который тоже понемногу собирал картины. И вот среди, не столь уж большой, коллекции картин Хенкина отец определил несколько подделок под Маковского, Айвазовского, Шишкина. Почему-то очень много подделок было в ходу именно под этих художников. Владимир Яковлевич, конечно, был очень расстроен таким заключением, но, будучи человеком веселым и остроумным, сказал: “Твой приход, Исаак, помимо ужина, стоил мне, по меньшей мере, 20 тысяч рублей”»17 .
После покупки Бродский-коллекционер ставил на мольберт свое приобретение в столовой или мастерской и приглашал друзей-художников, чтобы они, посмотрев картину, могли выразить свои впечатления и мысли по поводу новой в его собрании вещи. Эти встречи компетентных и понимающих людей перерастали в долгие разговоры и споры об искусстве. В 1930-е годы в коллекции Бродского появились произведения совсем молодых художников, студентов Академии - А.И.Лактионова, П.П.Белоусова, А.Н.Яр-Кравченко, С.Б.Юдовина, А.В.Каплуна, И.М.Биленкого. Многие из этих работ выполнены в различных техниках печатной графики - литографии, ксилографии, офорте. Они были отпечатаны в академическом Кабинете графики, созданном при активном участии Исаака Израилевича и ставшем предшественником графического факультета Института живописи, скульптуры и архитектуры. И его собственное увлечение литографированным портретом, вероятно, тоже связано с работой Кабинета, возглавлявшегося известным гравером П.А.Шиллинговским. Тогда же коллекция пополнилась и работами зрелых мастеров, которые стали преподавать в возрожденной Академии, - А.А.Рылова, А.И.Савинова, В.В.Беляшина, К.С.Петрова-Водкина. Отношения с ними складывались у Бродского по-разному: с Рыловым продолжалась давняя, крепкая дружба, с Савиновым, однокашником и товарищем по пенсионерской поездке, возник конфликт, но их картины и этюды разных лет стали подлинным украшением коллекции.
К сожалению, Бродский не оставил никаких записей о времени и обстоятельствах приобретения экспонатов коллекции и восстановить историю их поступлении и бытования возможно лишь по косвенным, часто случайным источникам.
За свою жизнь Бродский собрал около полусотни картин, рисунков и акварелей своего кумира Репина. В основном это портреты разных лет - парадные и интимные, психологические и декоративные. Он настолько хорошо изучил фактуру живописи Репина, что мог определить его работы с закрытыми глазами и однажды это доказал, поспорив с друзьями. На ощупь среди нескольких одинакового размера полотен Бродский безошибочно узнал работу Репина. Почетное место в коллекции занимает парадный портрет М.К.Бенуа (1887), известной в Европе пианистки, жены художника Альберта Бенуа. Он хотя и не совсем закончен, но написан с блеском и свободой. В 1935 году Е.Е.Лансере сообщил Бродскому в письме, что его двоюродный брат Альберт Бенуа выставил на продажу портрет жены Марии Карловны работы Репина. Таким образом, эта работа оказалась в музее художника. В парадном стиле выполнен Репиным портрет М.К.Тенишевой (1896). Известная меценатка, просветительница, коллекционер в своем имении Талашкино создала уникальный культурный центр просвещения. Лирическим настроением наполнен портрет дочери Репина Верочки, известный под названием «Девочка с букетом» (1878). Репин в этом портрете, объединяя все светлым колоритом зеленовато-золотистых тонов, подобно художникам французского импрессионизма, великолепно решил задачи пленэрной живописи. В коллекции Бродского хранится этюд Репина «Бурлаки у костра» (1870–1872), выполненный художником во время поездки по Волге для сбора материала к его знаменитой картине «Бурлаки на Волге». Среди многочисленных живописных и графических произведений Репина выделяется любопытная работа - расписанная дверца деревянного шкафчика «Птица Гамаюн». Обращаясь к сказочному персонажу - вещей птице, художник создает пленительный женский образ, наполненный тонкой эротикой и чувственностью.
Высоко оценивал и любил Бродский творчество И.И.Левитана. В коллекции Бродского хранится уникальная работа пейзажиста - портрет Софьи Петровны Кувшинниковой (1883), прототипа героини чеховского рассказа «Попрыгунья».
Прекрасно представлен в музее Серов. В последние годы жизни Серов разрабатывал сюжеты из греческой мифологии и создал много рисунков, эскизов, этюдов и набросков. Эскиз «Ифигения в Тавриде» (1893) написан к одноименной картине на сюжет трагедии Еврипида. В этой композиции Серов верен своему методу работы с натуры: глядящей в морскую даль изображена жена художника О.Ф.Серова (Трубникова). На античный сюжет создавалась картина Серова «Похищение Европы», один из вариантов этой композиции «Похищение Европы. Эскиз» (1910), полный загадочного настроения и поисков новой формы, - в коллекции Бродского. Бродский вспоминал в своей автомонографии «Мой творческий путь» о встрече с Серовым в Италии. Вместе с художником Савиновым они осматривали музеи Рима, когда произошла эта встреча. Серов собирал тогда материалы для своей картины «Похищение Европы». «Он жаловался, что не может найти подходящей модели - племенного быка, чтобы сделать с него зарисовки. Я помню, что посоветовали ему направиться в Орвието, где разводят очень могучих и круторогих быков. Серов обрадовался совету, поблагодарил нас и, пожелав нам удачи, уехал в Орвието писать быков. Встреча с Серовым для нас, молодых художников, была очень радостной, и мы долго не могли успокоиться»18 . Близки были Бродскому и пейзажи Серова средней полосы России. Тончайшее мастерство, растущее с годами, органически сочетается в них с простотой мотива. Такие работы, как «Пейзаж с лошадками. (Деревенский пейзаж)» (1890), «Сараи» (1900) вдохновляли Бродского на создание собственных композиций.
В собрании Бродского много работ мастеров художественного объединения «Мир искусства». Следует отметить изысканные пейзажи А.Н.Бенуа, выполненные им во Франции, - «Озеро. Примель. Бретань» (1905), «Версаль. Фонтан “Пирамида”» (1910). Многие работы этого художника связаны с историей Петербурга. «Петербург - удивительный город, имеющий себе мало подобных по красоте», - писал А.Н.Бенуа19 . Серии, посвященные старому Петербургу и петербургским пригородам, представляют собой своеобразные художественно-исторические реконструкции. В этих композициях авторское внимание приковывается к природе и памятникам - «к старой, но живой красоте». В произведении «Петергофские фонтаны» (1901, 1917) - острая, фрагментарная композиция. Художник не ищет академической законченности и мелочной детализации. Его цель - создание поэтического образа.
Театр, вошедший в жизнь большинства мирискусников, стал неотъемлемым фактором их духовного бытия и творческой практики. Влияние театра сказывалось на многих станковых произведениях. Ярчайшим примером театрального портрета может служить произведение А.Я.Головина «Портрет Ф.И.Шаляпина в роли Мефистофеля в опере Ш.Гуно “Фауст”» (1905). В 1904 году Шаляпин пел в Миланском оперном театре «Ла Скала» партию Мефистофеля в костюме, созданном Головиным. Артист написал в письме В.А.Теляковскому, директору Императорских театров, что ему «пришлось играть среди банальных декораций “олеографического стиля по тонам и письму”. Что делать? Пришлось петь в “конфетках”. Но, если бы Вы и милый Саша Головин посмотрели на сцену, каким резким пятном осталась бы в Вашей памяти моя фигура, одетая положительно в блестящий костюм. Как глубоко благодарен я и Вам и моему симпатичному и любимому Александру Яковлевичу Головину»20 . Портрет исполнен в декорационной мастерской Мариинского театра. Головин впоследствии вспоминал, что он написал портрет с большим напряжением за одну ночь, при электрическом освещении: «Работа шла у меня почти без перерывов, мне хотелось во что бы то ни стало окончить ее, и это удалось, но помню, что устал ужасно, и когда я клал последние мазки внизу картины и нагибался, с меня буквально лился пот, до такой степени я изнемог»21 . Двухметровая зловещая фигура Мефистофеля завораживает зрителя своей живописной силой.
Театральный характер носят галантные миниатюры, созданные К.А.Сомовым. Творческая индивидуальность этого изысканного мастера раскрывается в картинах, в которых живое чувство натуры сочетается с элементами фантазии. На аллеях дворцовых и приусадебных парков, у фонтанов и скульптур, в беседках он изображал дам и кавалеров в атласных камзолах, пудреных париках, фижмах и кринолинах. Любовные сцены в интерьерах или на фоне радуг и фейерверков - лейтмотив творчества Сомова. «Спящая молодая женщина» (1922) - характерный пример подобных миниатюр.
Принадлежал к объединению «Мир искусства» живописец и блестящий рисовальщик Ф.А.Малявин. Дерзкая живописность, необычайно размашистое письмо, особая эмоциональная насыщенность характеризуют полотна Малявина. Великолепный портрет известного скульптора, профессора, ректора Петербургской Академии художеств В.А.Беклемишева (1910-е годы), приобретенный Бродским, отличает уверенная пластическая лепка объемов, переданная темпераментным, свободным мазком. Ощущение величественности и монументальности образа достигается вертикальной композицией, точкой зрения снизу, показом головы портретируемого крупным планом, звучным колоритом. Малявин очень многим был обязан Беклемишеву, который разыскал его в Афонском монастыре, где молодой художник был послушником. Беклемишев оценил его дарование и помог приехать в Петербург учиться.
Почетное место в собрании Бродского занимают рисунки Малявина, свободные, лаконичные наброски, посвященные его излюбленной теме - русским крестьянам.В автомонографии «Мой творческий путь» Бродский, говоря о своем коллекционировании, вспоминал о покупке рисунка Малявина «Три бабы»: «По выставке ходили московские богачи, именитые купцы, увлекающиеся собиранием произведений живописи. Когда появились ящики с рисунками Малявина, несколько миллионеров, бывших на выставке, не желая упустить интересные для них вещи, стали в очередь у ящика с малявинскими рисунками. Я также занял место в очереди, которая сразу нарушилась, когда ящик был открыт, и рисунки стали буквально расхватывать. У одного миллионера я увидел в руках замечательный рисунок “Три бабы”. Я стал уверять его, что рисунок ерундовый, и советовал ему выбрать что-нибудь получше, а сам, схватив этот рисунок, быстро удрал и ждал, пока рассосется очередь»22 . Московские богачи приобретали работы за одну-две тысячи рублей. Но Малявин, зная, что Бродский не смог бы заплатить эту сумму, по-приятельски уступил рисунок за 300 рублей.
Бродский был большим поклонником творчества Кустодиева, в особенности его рисунков. Желая поддержать художника, прикованного болезнью к креслу, Исаак Израилевич заказал ему серию акварелей «Русь». Кустодиев изобразил с добрым, мягким юмором многоликие русские типы: важных купцов и дородных купчих, солидных торговцев и юрких трактирщиков, изможденных монашек и хитроватых священников. Художнику удалось соединить воедино наивность и условность народного искусства с высоким профессиональным мастерством. Эта серия, как и множество других живописных и графических работ Кустодиева, стала гордостью коллекции Бродского. Ведущее место среди разнохарактерных творений Кустодиева занимают картины из русской народной жизни: это мир праздничный, красочный, полный искрящегося веселья и удальства - масленицы, балаганы, ярмарки. «Масленица» (1919) - вершина в творчестве художника в этом жанре. Звучит настоящий гимн русской зиме, ее природе. Кустодиев воспринимает жизнь как поэт.
В коллекции художника появилось значительное количество картин и рисунков авангардного направления, запрещенных в советской России. Эстетически утонченные небольшие произведения, такие как «Портрет Кульбина» С.Ю.Судейкина, два уникальных ранних натюрморта Шагала, составляющих ныне славу музея, однако принадлежали к ряду произведений, нуждающихся в 30-е годы в надежном убежище и, по мнению Бродского-собирателя, достойных спасения. В дневниках П.Н.Филонова подробно описана встреча с Бродским, который хотел приобрести у него работы для собственного музея. Подобные факты свидетельствуют о Бродском как о человеке широкого взгляда на искусство. Жемчужины коллекции Бродского - картины Шагала «Вид в сад» (1917) и «Интерьер с цветами» (1917). Они принадлежат к раннему периоду творчества мастера. Эти работы Шагала обладают мощной энергетикой, поражают радостью бытия, легкостью и свежестью, что выражено в изумительной колористической гамме, построенной на переливах голубовато-жемчужных тонов.
Для творчества Б.Д.Григорьева основой художественного языка является гибкая, точная линия, гротеск и острота характеристик, выразительность колористического решения. Особое место в творчестве Григорьева занимает большое полотно «Портрет Ф.И.Шаляпина» (1918). Этот портрет был приобретен Бродским у автора вместе с другими его работами. Григорьев жил в том же доме на улице Широкой, где была мастерская Бродского, они бывали в гостях друг у друга, встречались на концертах Шаляпина. Как и многих художников, Григорьева привлекли талант, цельность натуры, красота внешнего облика певца. Интересно, что современники отмечали удивительное сходство художника и артиста. У критика Н.Радлова герой очерка рассуждает так: «Григорьев и Шаляпин, вы заметили сходство этих явлений? Для меня оба они - олицетворение русского дарования. Оба огромного роста, белые, чисто русские лица; их волосы, даже носы с вздернутыми ноздрями. Есть несомненное сходство и в характере успеха каждого из них, в его стремительности и в характере одаренности. Это стихийные, какие-то черноземные таланты»23 . Григорьев создал образ неоднозначный, странный, тяготеющий к монументальности и одновременно разрушающий ее. Шаляпин изображен босоногим, в красном халате, распахнутом на груди, полулежащим на голубом с алыми узорами покрывале. Несмотря на внешне спокойную позу он весь в напряжении и полон энергии, взгляд настороженный и немного подозрительный. Плотно сжав губы, он как бы нетерпеливо слушает собеседника и готов ему резко возразить. В таком облике Шаляпина не изображал никто из художников. Портрет экспонировался один раз в Петрограде в 1919 году на Первой Государственной Свободной выставке произведений искусств. Впоследствии Григорьев обращался к образу певца в своем полотне «Лики России».
В 1918 году в Петербурге была издана книга Бориса Григорьева «Intimitй», на фронтисписе которой воспроизведена картина «Улица блондинок» из коллекции Бродского. Этот цикл объединяет живописные и графические работы 1916–1918 годов из серий «История одной девушки», «Париж», произведения «бытового эроса», изображающие быт проституток, цирковых артисток, певичек и т.п. «Улица блондинок» - обобщающее полотно цикла, это подчеркивается монументальным изображением главной героини. Григорьев показал себя в этой работе сильным и жестким психологом, создающим необыкновенные характеры.
Бродский не только страстно и целеустремленно собирал свою знаменитую коллекцию, но и щедро делился этими сокровищами. Так возник художественный музей имени И.И.Бродского в Бердянске, значительно пополнилось собрание музея в Днепропетровске. Ряд музеев страны получили от художника его собственные работы. Квартира Бродского не могла вместить все собранное за многие годы. Картины и рисунки были развешаны на стенах всех комнат от пола до потолка, на створках дверей, на откосах оконных проемов, в прихожей, в коридоре, на стенах винтовой лестницы, ведущей в мастерскую, в тамбуре перед входной дверью на улицу. Интересам коллекции была подчинена жизнь семьи. Первоначально художник, задумываясь о будущей судьбе картин, решил передать свою коллекцию Киеву для создания музея. Но эта идея не осуществилась. Приходил к Бродскому директор Третьяковской галереи и предложил приобрести всю коллекцию за 2 миллиона рублей, но Исаак Израилевич понимал, что его картины осядут в запасниках и, по сути, его музей перестанет существовать. При жизни художника судьба его коллекции не была решена, он не оставил завещания. Но родные, зная его мечту, обратились к правительству с просьбой принять в дар коллекцию, собранную И.И.Бродским. В 1939 году вышло постановление правительства о создании мемориального музея художника, а в 1949 году музей-квартира И.И.Бродского был открыт.
Коллекция Бродского, одно из первых советских частных собраний, сравнима по значению и ценности с крупнейшими государственными музеями, своим поразительным многообразием и полнотой подчеркивает сложность и уникальную культурно-художественную противоречивость минувшей эпохи. Она ярко передает своеобразие личности Бродского-собирателя, его тонкий художественный вкус и любовь к искусству. Каждая вещь здесь не случайна, обладает большими художественными достоинствами, прекрасно характеризует ее автора. Коллекция позволяет по-новому взглянуть на работы известных русских мастеров. Это сложное переплетение маленьких и больших шедевров в нечто единое, создающее мощное художественное явление, которое дарит человеку эстетическую радость. В этом - неоценимая заслуга Бродского, замечательного художника и великого коллекционера.
Примечание
1 Бродский И.И. Мой творческий путь. М.; Л.: Искусство, 1940. С.7.
2 Бродский И.И. Указ. соч. С.14.
3 Академическая дача находилась в Тверской губернии, недалеко от Вышнего Волочка на реке Мсте и именовалась «Владимиро-Мариинский приют для малоимущих студентов Академии художеств». В 1883 г. президент Академии художеств великий князь Владимир Александрович ходатайствовал о передаче в распоряжение АХ дома с парком и постройками, принадлежавшими Министерству путей сообщения. Известный меценат купец В.А.Кокорев, пожертвовавший средства для приюта, был назначен его попечителем. Дача была открыта в 1884 г. В летнее время она могла принять до 28 студентов живописного отделения, находившихся на полном обеспечении АХ. Ученики совершенствовались в пейзаже, писали на пленэре. Натура предоставлялась бесплатно. На даче была превосходная библиотека, сюда приезжали многие известные художники, артисты, писатели. В конце октября в залах АХ ежегодно устраивались отчетные выставки работ, исполненных на мстинской даче.
На академической даче Бродский провел лето 1907 г. и написал целый ряд этюдов. Бродский писал своему учителю в Одесском художественном училище К.К.Костанди: «Этюды последнего лета большие, есть двухаршинные, писаны 5-7 сеансов, очень выписаны, вообще это лето я отнесся очень серьезно к этюдам…» Совет ВХУ при Академии художеств отметил похвалой летние этюды Бродского и рекомендовал представить их в Общество поощрения художеств на конкурс для присуждения молодым художникам стипендии. Бродскому была присуждена высшая стипендия.
4 Памяти Бродского. Воспоминания, документы, письма. Л.: Художник РСФСР, 1959. С.58.
5 Бродский И.И. Указ. соч. С. 19-20.
6 Там же. С.28.
7 Бенуа А.Н. Художественные письма. 1908. Цит. по: Бродский И.И. Указ. соч. С. 35-36.
8 Рылов А.А . Воспоминания. М.: Искусство, 1940. С.204.
9 Георгиевич Н. (Шебуев Н.). Молодые // Газета Шебуева. 1906. № 2.
10 Бродский И.И. Указ. соч. С.42.
11 Там же.
13 Бродский И.И. Указ. соч. С.90.
14 Цит по: Бродский И.А. Исаак Израилевич Бродский. М.: Изобразительное искусство, 1973. С.240.
15 Бродский И.И. Указ. соч. С.87.
16 Бродский И.А. Указ. соч. С.299. Запись беседы с И.И.Бродским.
17 Бродский Е.И. Воспоминания об отце. Машинопись. С.122.
18 Бродский И.И. Указ. соч. С.44.
19 Бенуа А.Н. Живописный Петербург // Мир искусства. 1902. № 1. С.5.
20 Теляковский В.А . Воспоминания. Л.: Искусство, 1965. С.125.
21 Цит по: Раскин А. Шаляпин и русские художники. Л.: Искусство, 1963. С.75.
22 Бродский И.И. Указ. соч. С.71.
23 Радлов Н. От Репина до Григорьева. СПб., 1923. С.5.