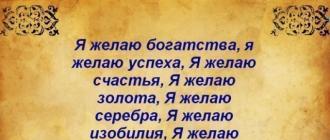Анонс журнала «Человек на Земле» №10:
Десять — цифра симпатичная: круглая, весёлая, но и вполне себе солидная. И пока верстается десятая книжка журнала, мы анонсируем для наших читателей отрывки из будущего — юбилейного – номера.
Мечта Анечки Штейн
Давно уже не было черносотенцев, лагерей и газовых камер. Даже безродные космополиты и убийцы в белых халатах стали как-то подзабываться. То, что царский закон о черте оседлости сменила подзаконная процентная норма, конечно же, раздражало, угнетало, нервировало, но никакого сугубого страха на живущих под нормой не наводило и в дрожь не вгоняло. Так что жизнь была, в общем-то, более или менее обыкновенной.
1
Коллективные опыт и разум, несмотря ни на что, говорили им, что обстоятельства могут изменяться стремительно и необратимо, и тогда уцелеть удаётся тем только, кто не на виду, тем только, кто не привлекает к себе внимание двуногого стада; поэтому – при любых обстоятельствах – нужно стараться быть неразличимым в толпе, а ещё лучше – попытаться стать совершенно невидимым.
Три поколения женщин, потерявших в лихолетьях минувшего времени драгоценных своих мужчин и многих, и многих близких, теперь, изо всех своих слабых сил, защищали единственное своё продолжение: старались растить дочку, внучку и правнучку до того неприметной, что иногда (до поры) сами сомневались в реальности Анечкиного существования.
Девочка даже знания свои в школе, по их настоянию, выявляла не в полную силу. Впрочем, данные у Анечки от природы были прекрасные, усердие и трудолюбие замечательные, так что троек в табеле никогда не водилось. Нет, гениальными способностями она не обладала, но живой и дотошный ум в сочетании с прилежанием и упорством давали очень и очень хорошие результаты.
Тем не менее, свойства серой, замкнутой мышки-тихони отлично работали; и если б её одноклассников спросили однажды, как Анечка учится и что собой представляет, то большинство из них вряд ли смогли бы что-то внятно ответить.
Один только раз серый панцирь, после долгих и трудных домашних сомнений, на миг решились разрушить, но в страшной панике снова надвинули на улитку непроницаемый домик, и, ко всеобщей семейной радости, всё тогда всеми благополучно и быстро забылось.
А случилось так, что под Новый год их восьмой класс пригласили… в театр! На «Золушку». Анечка никогда ещё на такое грандиозное представление не попадала. Ну, утренник в детском садике, ну, провинциальный театрик где-нибудь в доме отдыха, ну… Нет, огромный роскошный театр совершенно на всё это не походил. Ни на йоту!
Это был праздник такого масштаба, что пятнадцатилетней девочке, прожившей всю свою жизнь в скорлупе, под домашним арестом, под неусыпным надзором… Нет, никакими словами не передать волнение праздничное, немыслимое, необыкновенное… Всё, даже библиотека, на задний план отступило, всё растворилось в волнующем предвкушении чуда, предвкушении счастья. С ней творилось такое, такое – что и маме, и бабушке передалось (прабабушки уже не было). И тогда вдруг, в нарушение всех и всяческих правил, решили, что пошьют девочке ПЛАТЬЕ. В ателье, настоящее, праздничное, о каком Анечка после ужасных коричневых (бес)форменных своих балахонов даже и мечтать не могла.
И пошили! Голубое, кримпленовое, с воротничком-стойкой, удлинённой немного талией, нескромной самую капельку юбкой, открывающей стройные ножки; а к нему купили ещё красные – чешского стекла – бусы и вишнёвые туфли-лодочки на каблучке. А волосы, обыкновенно закрученные в уродливый пук, распустили, и теперь они широкой ночною рекой струились на плечи. <…>
Родился в Харькове. Окончил политехнический институт, инженер. Участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Публиковался в детских и взрослых литературных изданиях в России, Украине, Канаде, Болгарии и Германии. Живёт в Любеке.
Вы можете сказать, что кое-что в моем изложении кажется вам не вполне логичным: вот срок, вот доза: набрал свое езжай домой. Да не тут то было. На что того боле, коли дана дураку воля. Это не я, это народ сказал. А я расскажу вам, как это в жизни выглядит.
Батальон - это войсковое подразделение определенной численности; и поскольку организация работ была возложена на армию, то количество людей, призванных на ликвидацию аварии, определялось не количеством работы, а укомплектованностью подразделения. А что значит, когда работа на двоих, а есть трое, знаете? Правильно!!! Поэтому на работу в зону ездили не все. А в тот день, что ты не ездил в зону, тебе писали фон, т.е. практически ничего, на фоне ты мог набирать дозу до конца жизни, точнее все шесть месяцев переподготовки. Из вышесказанного вытекает два вывода: а) нужно правдами и неправдами стараться попасть на работы, где пишут больше; б) фон можно превратить в наказание, какого еще свет не видывал. Не спешите, я все сейчас расшифрую. Не спешите. Начну с пункта б). Знаете ли вы, что хотя срок службы ликвидатора, в основном, не превышал 3-3,5 месяца, мобпредписание выдавалось сроком на полгода? Вот здесь-то и была собака зарыта, этим-то и подавлялись любые попытки возмущения и неповиновения. Жить приходилось в условиях, далеких от комфорта. Офицеры, те, хотя бы, жили в вагончиках на четверых. Солдаты жили в армейских палатках на умопомрачительное количество человек. Лагерь располагался в лесу, вблизи болотца. Летом душили комары, весной и осенью было сыро, зимой холодно, т.к. дракон (печка на солярке) не при любом морозе обогревал одинаково. Кроме того, я должен вам напомнить, что солдатам и офицерам, призванным на ликвидацию, было от 30 до 45 лет, - не мальчики уже. Что же можно предпринять, чтобы держать в узде большое количество людей, самой системой организации аварийных работ (о чем ниже) обреченных на безделье и бездеятельность? Их нужно наказывать! А как? Не пускать в зону! Писать фон! А на фоне заставлять через день ходить в идиотские наряды, например, собирать дерн в лесу и обкладывать им дорожки в жилой зоне сорокалетних мужиков! Кроме того, нас ведь никуда не выпускали, - как зэков. Рядом было село Ораное, городок Иванков, но ни там, ни там я не был ни разу. Увольнения не полагались. Через месяц люди, лишенные дома, работы, свободы действий, изнывающие от вынужденного безделья, готовы были ехать куда угодно, лишь бы вырваться отсюда. Теперь понимаете, что за наказание было не ездить в зону? Попробуйте рассказать кому-нибудь, что вы просто так, без всякой пользы для окружающих рвались получить побольше рентген под шкуру. Посмотрим, сочтут ли вас при этом нормальным. Но так было здесь! И это чистая правда.
Теперь про пункт а). Батальон наш назывался ремонтным. Мы должны были ремонтировать технику, которая обслуживала зону: автомобили, бульдозеры, военно-инженерную технику и т.д. Должны были, но... Но об этом потом. Да, так вот, у нас в батальоне было несколько передвижных мастерских, где стояли станочки: токарный, сверлильный, точильце... На этих станочках умельцы лихо делали ножички, которые, как в ножны, ввинчивались в футляр от дозиметра. Ножички делали из износившихся клапанов автомобильных двигателей. Ничего, что некоторые из них слегка светились, т.е. излучали, зато это была шикарная чернобыльская валюта, ходившая по всей зоне и имевшая стабильный спрос. С этой валютой можно было подкатиться к ротному и плотненько поездить в зону, к начвещу - сменить сапоги на ботинки, получить новое ВСО, ну и мало ли еще чего... (Как используется эта техника по назначению, я не видел ни разу. Но допускаю, что такие случаи были). Правда, потом эти ножички уезжали на гражданку, но кому до этого было дело, если дяди с большими звездами на погонах сами были не равнодушны к этим игрушкам, и сами использовали их как валюту для своих нужд.
Был еще один (официальный) путь уменьшения срока службы командировка. В такую командировку и попал ваш покорный слуга, чему и обязан своевременным выходом на волю. Командировки были в зону, где жили некоторые части. Например, прибалты, к которым послали нас. Мы изумительно отбездельничали недельки полторы - две: ни работы, ни нарядов, ни построений и вернулись назад. Смысл командировки заключался в том, что в чужой части до нас никому не было дела и тетрадь учета дозы вел не подконтрольный части секретчик, а мы сами, и писали ее сообразуясь со здравым смыслом, а не с инструкцией. Правда, потом местные власти ставили на нашу тетрадь печать и подпись, но они как-то не очень смотрели, что подписывают, тем более, что для частей, живших в зоне, не было понятия фон. О том, что наша командировка никому не нужна, знали, кажется, все кто нас туда посылал. Знали и то, что пишем мы там, что хотим. Но не держать же нас действительно по полгода. Да и лишних людей в части становилось меньше. А я за свое доблестное безделье письменной благодарности удостоился. Хотите, покажу?
Уже после нашей командировки нашелся один умник, который за две недели написал себе все недостающие для отъезда бэры, а прослужил он к тому времени что-то около двух месяцев. Был страшный скандал. Его обещали вывести на чистую воду. Но все так ничем и закончилось: один комбат другого подставить не захотел, а документ был с печатью, официальный и пахло прокуратурой. Так этого наглеца и отпустили. Правда, командировки после этого надолго прекратились, к ужасной жалости всех оставшихся невольников.
Теперь о работе. Собственно, это и должно было быть самым главным, ради чего нас сюда согнали. Так вот, основным занятием большинства ликвидаторов было безделье: безделье откровенное, организованное, спланированное, доводившее людей до идиотской деятельности вроде изготовления ножичков. Нет, конечно, машины с людьми отправлялись в зону регулярно (кроме выходных и праздников), но организацией работ в зоне не занимался практически никто. Я вообще ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь в батальоне хоть раз упомянул о работе. Как уже было сказано выше, мы были ремонтным подразделением, призванным ремонтировать автотехнику, обслуживающую зону. Но начнем с того, что ни я, ни абсолютное число моих сослуживцев никакого отношения к автомеханике не имели. Мало того, в один прекрасный момент оказалось, что даже шоферов - профессионалов и то недостаточно, и потому машину, в которой я был старшим, водил солдат, окончивший профессиональные курсы, но до этого, кроме Запорожца, ничего не водивший. Машины, в которых мы ездили в зону и по зоне (это были разные машины), были вконец изношенными, со смертельно лысой резиной. Но ни резины, ни каких - либо других запчастей в рембате не было. Что уже говорить про ремонт чужой техники. Нет, помню, некоторое время было несколько человек, которые пытались заниматься ремонтом: снимали детали с одних изношенных машин и ставили на другие. Один солдат за это даже грамоту получил. Страшно понравилось генералу, как он усердно лежит под машиной и пятиминутную работу за три часа делает, т.к. ни о хороших инструментах, ни о приспособлениях никто подумать ни удосужился.
Кстати, о профессиональном составе: я технолог - металлист, со мной в домике жили шахтер и металлург, моими приятелями там были строитель и юрист. А совсем недавно я встретил художника, призванного в тот же рембат в 87 г. Он так же отбездельничал свои три месяца, как мы в 88-м. Только вот ноги у него теперь плохо ходят, и он собирает документы на инвалидность.
За то, что не работа была главной целью нашего пребывания в зоне, говорит, как мне кажется, еще один факт. Весь наш трудовой день продолжался совсем недолго. Ведь как ни крути, а мы все же находились в зоне повышенной радиации. К двум часам дня мы, обычно, были свободны, а с того времени, что прекратились обеды в зоне, так и раньше. Но никому почему-то не приходило в голову организовать в разгар длинных летних дней вторую смену, чтобы побыстрее выполнить положенную работу. Так о каких чрезвычайных работах идет речь? (!)
Но это я так, к слову.
В зону мы приезжали следующим образом: сначала подъезжали к границе 30-ти километровой зоны - село Дитятки, где был расположен пункт санитарной обработки - ПУСО-1,здесь солдаты переодевались в грязное ВСО и грязные сапоги (офицерам переодеваться не полагалось, даже сапог не меняли, а ведь земля была одинаковая для всех),а на обратном пути купались и переодевались в чистое; затем ехали на ПУСО-2, где меняли чистые машины на грязные и уже оттуда ехали на рабочее место промплощадку.
Приехали. В 80 случаев из 100 работы нет. Если есть работа, то нет чего-нибудь, что позволило бы ее сделать Бродим по площадке возле ремонтных боксов до обеда (Наша промплощадка была в нескольких километрах от 4-го блока, в пяти шагах от знаменитой сосны-обелиска).Обедаем прямо в зоне, под самой трубой. Часто во время обеда происходит выброс, но внимания на это никто не обращал. Раздавался хлопок, над трубой вспыхивало красивое белое облачко, и все становилось, как прежде. Обедали мы в АБК, в огромном зале, куда напихивали все части, работавшие в этот день в зоне. Перед зданием АБК вся земля засыпана песком. Перед дверью - мелкий поддон с марганцовкой - для мытья сапог. В обеденном зале пыль и грязь, толковище, гул... У каждой части свои повара, свой обед... Жуть!
Однажды (я уже отслужил полсрока) нагрянула на обед в зону какая-то медицинская комиссия. Ну и бушевал же майор - медик по поводу обедов под трубой, грязи и прочих зонных прелестей. С тех пор мы ездили обедать домой, в батальон. Так ведь июнь 88-го!!! А до этого после обеда мы ехали обратно на промплощадку и (даже если работы не было) дожидались определенного времени, когда можно будет уехать в Лелев, где нас ждала колонна. Без колонны двигаться по зоне было запрещено. Армия это или не армия! И еще около часа ждали, пока съедутся все машины со всех промплощадок. Наконец, все съехались. Теперь обратным порядком ПУСО-2, ПУСО-1 - в жилую зону. Но это все для тех, кто попал на работу. Для тех, кто остался в жилой зоне - это либо какой-нибудь идиотизм, вроде утрамбовывания новой площадки для автомашин, устройства нового фундаментального забора или просто безделье. Зато регулярно выпускались Боевые листки - обязательная работа для офицеров, призванная отражать выдающиеся заслуги личного состава.
Да, чуть не забыл, были ведь еще люди, которых писали в списки работающих в зоне (такие списки составлялись на каждый день), но которые в этот день в зону не попадали. Например: повара, банщик. Это ведь тоже были солдаты, но в зоне им делать было нечего. Так не служить же из-за этого по полгода! Ну и писали их в списки, и никто не возражал. Теперь они тоже ликвидаторы. Хотя, если честно, то ведь они действительно работали, а не как мы, извините, груши околачивали. Кроме них, дуриками в списки попадали кадровые офицеры. Не каждый из них мог или хотел ездить в зону ежедневно, а за каждую поездку полагалась дополнительная зарплата. Так не терять же! Зато теперь вовсю ищут фальшивых ликвидаторов. Напрасно ищите, панове, напрасно. У того, у кого надо, все чин-чинарем. Не усердствуйте.
Замена. Если б вы знали, какое сладкое и какое изматывающее это слово. Это вам только кажется, что никаких проблем здесь быть не может. Они были даже у солдат, которых меняли партия на партию, баш на баш. Но вы могли проштрафиться или просто не нравиться ротному и вашу замену можно было слегка (недельки на 2-3) подзадержать. Ведь выпускать на работу в зону переставали с таким расчетом, чтобы можно было держать вас на фоне месяца полтора-два. Зачем? Для сохранения численности. Разве не помните?
А вот с офицерами было сложнее. После того, как вы набирали определенное число бэр, из части в ваш родной военкомат посылали требование на замену, и сменить вас мог только персональный сменщик. Вот почему так радовался тот, кого сменил я. Ведь как повезло! Сменщика ждать не надо! А сменщиков-то воровали! Да, на сортировке. Кто пошустрее, да поудачливее мог увести сменщика и поминай, как звали. А обворованному - ох, не позавидуешь! В зону он ездить переставал. Уехать не мог. Слонялся целыми днями по жилой зоне. Я прослонялся так в ожидании замены две недели, через день, заступая на сутки в наряд на КПП жилой зоны. Тюрьма ни за что. Но две недели это не срок. При мне один прапорщик ходил ругаться в штаб сектора и грозился ехать в округ, в Киев. Ему полтора месяца не шла замена, и он от тоски чуть из кожи не выпрыгивал. Правда, после похода в сектор его отпустили. Но ведь полтора месяца мариновали на фоне. Система.
Кстати, понятие фон тоже было весьма условным. Например, поскольку офицеров не переодевали, они приносили грязь в жилую зону. Периодически засвечивались одеяла в вагончиках, сапоги, пилотки... В домиках и палатках стояли телевизоры, нелегально вывезенные из зоны. Дорожка мимо офицерских вагончиков в штаб была выложена из железобетонных плит, железные скобы которых слегка светились, а мы по ним топали сто раз в день. А так вокруг был, конечно же, фон.
Надо рассказать вам еще об одной штуке, о которой многие знают, но стыдливо умалчивают. Вместе с нами на ликвидацию этих самых последствий посылали кадровых офицеров, отслуживших свое в Афганистане и оставшихся в живых. Я хотел бы заглянуть в глаза тому, который это придумал. Но вряд ли удастся. Уверен, что он и сегодня при власти. На ответственном месте. Мемуары о славных делах своих пишет.
Ну вот, пожалуй, и все. Осталось рассказать вам про отъезд. Но сначала попробуйте вспомнить, как нас везли сюда. Вспомнили? Вот и хорошо. А теперь поедем обратно.
Кончено. Все. Свободен! Мне выданы документы на дорогу. Больше я здесь никому не нужен. Я вышел за ворота жилой зоны и только тут понял, что вернуться домой будет совсем не просто. Обратный путь лежал опять через Белую Церковь, где я должен был сдать обмундирование. Оставить его в части и не гонять людей в противоположный от Киева конец - ну никак нельзя было. В Киеве на вокзале дым стоял коромыслом. Билетов не было и не предвиделось. Чернобыльцы разных округов (сибиряки, москвичи, прибалты...) волна за волной накатывали на коменданта, и воздух загустел от отборного мата. Ни сесть, ни лечь! Наконец, к ночи, на нашем направлении образовалась ударная группа, которая вломилась к коменданту и со зверскими рожами предъявила ультиматум. Комендант куда-то скрылся на полчаса, и когда появился, сказал, что к ближайшему поезду прицепят общий вагон и посадят максимальное количество дембелей. Так и было. Посадили максимальное количество. Мы просто сидели друг на друге. Даже на третью полку забирались по двое. Но Бог мой, какое же это было счастье! Мы ехали! Домой!
На этом можно было бы окончательно поставить точку, но для многих и многих все предыдущее было только началом. И дальше об этом.
Как ни странно, но те, кто там побывали, стали болеть. Вам кажется нелепой эта фраза? Напрасно. Она кажется совершенно нормальной чиновникам Минздрава, и прочим чиновникам тоже. Иначе чем объяснить, что в 1992 году сняли I категорию, дающую хоть какие-то реальные льготы, с тех, кто заболел вследствие облучения, о чем есть заключение специальной комиссии, но не стал еще инвалидом? Иначе чем объяснить, что ликвидаторы, имеющие инвалидность, но не имеющие заключения комиссии о связи заболевания с пребыванием в зоне повышенной радиации (а получить заключение при нашей медицинской бюрократии ой как не просто), получают пенсию обыкновенную, а не как инвалиды Чернобыля? Иначе как объяснить вообще все, что происходит с законами, которые становятся все наглее, и которые даже в таком наглом виде все равно не исполняются.
Мало того, я своими ушами слышал, как минздравовский деятель с телеэкрана доказывал на полном серьезе, что многие больные ликвидаторы - обыкновенные симулянты, поскольку все свои нынешние болезни приписывают пребыванию в зоне. Но он ни слова не сказал о том, что японская статистика определяет латентный период радиационного поражения (имеются ввиду не критичные дозы), в 3-4 года.
Знаете, всякий, кто попал под следствие, пользуется правом презумпции невиновности. У больного, чья болезнь плохо поддается современной диагностике, похоже, такое право в этой стране отсутствует. Вас изначально считают если не симулянтом, то человеком, пришедшим урвать льготы любыми путями. А они, льготы, поставлены в прямую зависимость от болезней. В прошлом году я столкнулся с врачом, который работал в зоне на скорой помощи в 86 году. Теперь он вдруг теряет сознание и падает. Я хотел бы, чтобы вы тоже услышали, сколько времени, нервов и здоровья (которого итак немного) ушло у него на то, чтобы получить инвалидность. Как он говорит, только случай помог. Его лечащий врач была на суточном дежурстве, и ее позвали больные, когда он поздно вечером упал в коридоре. Иначе он никогда бы не доказал свою болезнь. Правда, связь он так до сих пор и не получил. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Да, так вот, поскольку изначально считается, что вы не столько больны, сколько хотите заболеть и получать льготы, но и отношение к вам в больнице и на комиссиях соответствующее. Этот врач, что со скорой помощи, через своих коллег добывал лекарства, которыми его потом лечили. А ведь это был специализированный чернобыльский центр. Правда, с теми, у кого не было возможности доставать лекарства, было проще: лечили тем, что есть, или не лечили совсем. Лечение это вообще отдельный разговор, но несколько фактов я хотел бы привести. Сломался энцефалограф. Чинили его, чинили, да так и не починили. Ну и ничего, больные, страдающие заболеваниями мозга, обошлись и без энцефалограмм. И даже диагноз получили.
Начали колоть лекарство. Сделали несколько уколов, и оно закончилось. Начали колоть другое, кончилось и оно. Тогда закончили третьим. С таблетками то же самое. Может, с точки зрения медицины оно и ничего, но с точки зрения больного...
А одного моего знакомого на ВТЭКе спросили, кем он работает, и когда услышали, что он директор школы, сказали, что директор школы с таким заболеванием обойдется и без инвалидности.
Я хочу еще раз повторить, что всех нас изначально считают жуликами. Иначе чем объяснить тот факт, что в 1993 году чиновничий аппарат затеял тотальную проверку чернобыльцев:
-А действительно ли вы были на работах по ликвидации?
-А справочку из военкомата?
-А справочку из бухгалтерии с места работы, откуда были мобилизованы?
-А это какая-то плохая справочка. Пошлите-ка вы запросик через военкомат в архив части, где вы служили.
И так обивали пороги все ликвидаторы, больные и здоровые, доказывая, что штамп в военном билете не поддельный, что болезни настоящие, что они, к сожалению, живы, живы, живы! А потом были дикие очереди за новыми удостоверениями, в которых больные, здоровые и инвалиды без разбору выстаивали долгие мучительные часы, перед тем несколько месяцев вызванивая наличие своей фамилии в списках. Спрашивается, ради чего затеяна была вся эта чехарда? Да, есть среди чернобыльцев симулянты, которые вовремя подсуетились, нашли, кому дать и теперь у них все в порядке: и инвалидность, и связь, и пенсия, и здоровье. Но их единицы, и из-за них, ей-Богу, не стоило издеваться и унижать тысячи честных людей. Да, есть те, чьи удостоверения не стоят ломаного гроша. Но они есть и сегодня (кто бы что мне ни доказывал) после грандиозной проверки, будут и дальше, даже если этих проверок будет миллион. А почему - я, наверно, вам уже объяснил. Мне кажется, я уже понял, что происходит: мы им мешаем, мы афганцы, чернобыльцы, пенсионеры, малоимущие, многодетные... мешаем им быть счастливыми. Если народ мешает счастью своих правителей, надо избавиться от такого народа. Я понимаю, что задача эта непростая, и решается она не вдруг. Но мы, молчаливые и покорные, так усердно помогаем им двигаться к счастью, что, я думаю, у них должно выйти хотя бы это.
Пусть и не сразу.
БЭР -- биологический эквивалент рентгена
"Связь" - просторечье, заключение комиссии о связи заболевания с пребыванием в "зоне
ОСЕНЬ
Все. Оставался какой-то десяток часов. Он уезжал. Навсегда. И ему напоследок хотелось исчерпать этот город до дна.
- А кругом была осень. И желтые листья. И солнце светило вовсю. И ветер был теплый и ласковый. Этот приторно ласковый ветер рвал охапками желтые листья с деревьев и бросал их идущим под ноги.
- И он тоже - высокий, изящный и соломенно-рыжеволосый - казался осенним листом, оторванным и гонимым все тем же приторным ветром. И еще он казался слепым, потому что на всех натыкался и чуть-чуть не попал под машину, и блуждал без цели и толку, ощущая с ужасом и восторгом, как время уходит, уходит, уходит, уходит, уходит...
- Все. Он больше уже не мог ни носиться, ни ощущать. Город все также был полон, а он исчерпался до дна. Ветер еще какое-то время кружил его душу, напоследок давая возможность насладиться свободой, и теперь вот швырнул его так же, как прочие листья, идущим под ноги. Он сидел на скамейке в крошечном сквере, зажатом между домами, и был тих и бессилен, и как будто уснул, улыбаясь теплу и покою, опустошенный.
- О Господи! Время! Он схватил свою сумку и понесся как вихрь, как тайфун, как торнадо, теперь уже целеустремленно расталкивая прохожих (мне кажется, что от этого им было не легче), и чуть было снова не попал под машину. Но вот и автобус. Привычная давка привела его в чувство. Он быстро восстанавливал силы перед дальней дорогой. Скорлупа разрушалась. Птенец выбирался на волю. Чтобы жить!
- Черт! Проклятое время! Как дикий зверь за добычей, пересек он вокзальную площадь, скатился в подземный туннель, вырвался вновь на поверхность, на перрон, и понесся к вагону, распугивая пассажиров, разметая опавшие листья...
- Откуда только взялась эта лужа! Состав уже лязгнул на сцепках, а еще два вагона... И Она закрывает проход между лужей и краем перрона. И о, вихрь, о, тайфун, о, торнадо!..
- Она была так же изящна и соломенно-рыжеволоса. И казалось, что они - два листа с одной кроны. Это ветер прибил их друг к другу и теперь наслаждался творением крыл своих (вполне в его духе).
- И он обнял ее, приподнял, и затих, и несмело коснулся губами, и, гонимый осенним временем, унесся, оставив ее на перроне среди облетевших листьев.
СТАРИК
С утра шел дождь. Днем вдруг огромными мокрыми хлопьями повалил снег, и вскоре всюду лежала грязная ледяная каша, провоцируя богохульство водителей и ипохондрию пешеходов. К вечеру изможденный, искалеченный первой метелью город опустел, стал похож на воющую от голода черную и пустую утробу.
Жидкий, желтоватый свет одинокого фонаря превратил стеклянный навес остановки в огромную банку, наполненную формалином. Три тощих, скукоженных фигуры, заформалиненных в банке, медленно плавали от стенки к стенке, ожидая прихода трамвая как решения собственной участи.
Худой низкорослый бородатый старик в замурзанном ватнике и таких же штанах, заправленных в заляпанные грязью кирзачи, понуро и неподвижно стоял за пределами банки и безучастно смотрел на редко проносящиеся болиды, швыряющие по сторонам ошметки ледяной грязи. Тощий, выцветший от времени рюкзачишко старик перекинул со спины на живот и старательно прикрывал его занемевшими от холода, корявыми большими руками.
Трамвай все не шел и не шел. Снег все падал и падал. А ветер все выл, и выл, выл, и выматывал душу.
Наконец подкатил он - звонкий, желанный, несущий свет и надежду. Три тощих скукоженных фигуры торопливо попрыгали внутрь. Старик вошел за ними, последний. Трамвай дернулся и покатил, унося своих пассажиров навстречу теплу, уюту и исполнению желаний.
Пассажиров в вагоне было немного: дородная дама с лицом деревенской матроны, прапорщик, похожий на прапорщика, два престарелых джентльмена, слегка подшофе, типичный интеллигент в очках и шляпе и влюбленная пара, чьих лиц видно не было, потому что они целовались.
Старик сел подальше от всех, возле окна, в той части вагона, где лампа в плафоне сгорела и стояли сизые сумерки. Он устроился, положил на колени рюкзак и долго сидел, весь свернувшись в комок и грея руки у рта. Наконец его руки согрелись. Тогда он развязал рюкзак, достал деревянную дудочку и заиграл...
Подлость людская привела его в город за правдой; подлость людская гнала его прочь без правды. Потому все равно ему было, что происходит вокруг, он хотел одного - успокоить иззябшую душу, увести ее прочь из замкнутого пространства к теплу и покою.
Матрона яростно рылась в объемистой черной сумке, вояка кемарил, раскачиваясь во сне как китайский болванчик, престарелые джентльмены пихали друг друга локтями и ухахатывались, интеллигент безучастно смотрел в окно, а влюбленные целовались без устали и печали.
Старик все играл и играл, отстранившись от мира тусклой обыденности, ошметков грязи и невыносимого холода. Он был далеко, далеко, среди чистых лесов и полей, где ветер шумит, а не воет, где птицы поют, а не каркают, и где воду пьют только из родников.
Грохоча и сияя, бежал по маршруту трамвай, неся свет и надежду всем, кто ждет их в пути.
А за окнами злобно выла черная пустая утроба, обреченная на смерть.